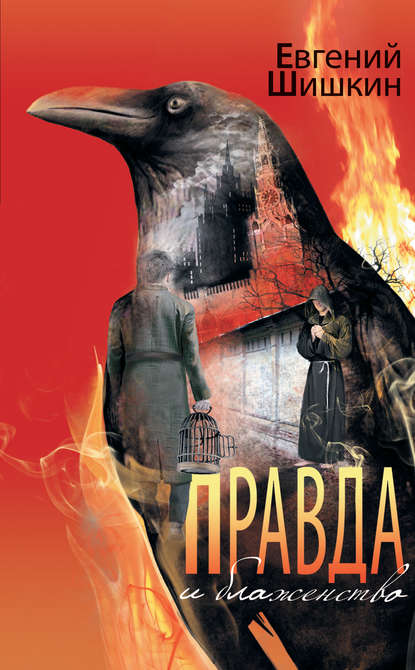По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда и блаженство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– За что? – простодушно спросил Костя.
– За подлость… Ленька Жмых всех девчонок батонами и швабрами зовет. Грязь на них льет… Я видел, как он у клуба одной девчонке по лицу врезал… Подлая вся эта шпана.
III
С празднества Первомая по традиции начинала работать летняя открытая танцплощадка у местного клуба. Здесь гремели первые городские электрогитары, частил по звонким тарелкам ударник, пищала «ионика». Наступила эпоха битломании, Ободзинского и «Поющих гитар».
На танцы съезжался и сходился молодой народ, наведывались знаменитые хулиганы, главари уличных группировок с разных районов Вятска. Сюда, на мопровскую окраину, их манила не только экзотика – рядом река, развесистые ивы: есть где выпить и пошалить с девками, – но и пронзительный тенор Димы Горина; душу выворачивало, когда доморощенный песняр вытягивал на высоченных нотах полублатную арию:
Помню, помню мальчик я босой
В лодке колыхался над волнами.
Девушка с распущенной косой
Мои губы трогала губами.
Ленька Жмых надевал на танцы боксерские перчатки. Спортинвентарь раздобыл для него ушлый Санька Шпагат.
– Потренируюсь немного перед армией, – заявлял Ленька, ударял себе перчаткой в челюсть, словно пробовал дозировку боли, и подходил к бабушке с просьбой завязать шнуровку.
– Куды ты в эдаких корюгах пойдешь? – дивилась старенькая Авдотья, завязывая шнурки перчаток бантиком.
– Пойду, бабуля, на танцы. Кому-нибудь в пятак дам, – простосердечно отвечал внук.
– Да ты што! – привскакивала бабушка. – Посадят!
– Если кулаком в рыло – это драка. Если в перчатках – это, бабуля, бокс… Тренируюсь. В армии в спортроту пойду.
Ленька Жмых появлялся у танцевальной площадки и за вечер, обычно, человек пять отправлял в нокаут или нокдаун, эти понятие он не мог различить; словом, валил несчастливца ударом «в отруб».
Однажды, когда у Леньки Жмыха уже была на руках военкоматовская повестка, а для проводин матерью была закуплена «Московская» белая с зеленой этикеткой, возле танцплощадки разразилась кровавая беда. У кустов, где, по обыкновению, справляли малую нужду, на Леньку-призывника выплыл из сумерек невысокий, но плотный, квадратистый молодой человек с круглым лицом. Стрижен он был коротко, по блатной моде.
– Закурить давай! – бросил ему Ленька для затравки.
Крепыш насторожился, будто чего-то не понял. Негромко, предупредительно сказал:
– Ты чего грубишь? Я Порция.
– Чё? – изумился Ленька. – Кто ты?
– Перчатки, говорю, у тебя клёвые, – играл какую-то игру незнакомец. – Дай посмотреть.
– Я тебе дам понюхать! – Ленька Жмых хотел было снизу вмазать крепышу в челюсть. Но не успел.
Крепыш головой боднул его в лицо, так что розовые круги поплыли в глазах Леньки-боксера. Себя он ощутил уже в кустах.
– Ты чё, козел! Я тебе сейчас полпорции сделаю! – Ленька зубами распустил шнурки, сбросил перчатки и со своей финкой, с которой никогда не расставался, вышел к головастому незнакомцу.
Ножевых ранений на теле Порции оказалось больше дюжины. Хоронили Порцию не шпана, не мелкие хулиганы – настоящие вятские воры. Порция был вор, – другая квалификация, другой авторитет в блатном мире. В их среде клички давались не по фамилиям. Сотоварищи поклялись отомстить за Порцию отвязному фраеру, который кинулся на него с финкой.
Несколько дней Ленька Жмых не дотянул до отправки в Советскую армию. А на зоне, после суда и приговора вскрыл себе вены. Шел слух, что ему посодействовали.
IV
Мир юношеский – будто слоеный пирог. Сверху сладко искрится сахарная пудра, а в глубине, между сдобными коржами, может быть самая горькая горечь горчицы. И, верно, нет на земле отрока, который не мечтал бы поскорее переметнуться с вилючей тропы юношества на взрослый, независимый путь.
…В середине лета в пустующей, заброшенной голубятне, что возвышалась над сараями у одного из мопровских домов, появились белые породистые голуби. Из тюрьмы вернулся, оттрубив два года на «малолетке» и добрав полгода на «взросляке», Анатолий Шмелев, по кличке Мамай, который сызмальства имел две страсти: голуби и грабеж. Кличку ему подсудобила собственная мать, не потому что пошибал он чем-то на дальнего родственника бурята, с узким разрезом глаз, – подсудобила, когда узнала, что он поколотил в школе сразу шестерых сверстников: «Какой ты у нас Мамай!»
Дом, в котором жили Шмелевы, стоял наособину – не на линии улицы, а в глубине. Построен он был относительно других домов много позже и не вписался в шеренгу. Шмелев-старший зашибал деньгу в приполярной воркутинской шахте, а жену с сыном переместил из шахтерской общаги в Вятск; приткнулся на землю деда, откусил у него часть огорода, выстроил дом с верандой, сараем и голубятней.
Свист Мамая над голубятней, которую далеко видать с улицы Мопра, звучал недолго – упекли голубятника; с местными парнями дружбы он спаять тоже не поспел. Но о нем знали, его помнили. Темная и дурная слава – самая яркая, липкая слава.
– Стоять!
Они шли втроем: Пашка, Лешка и Костя. Возвращались с реки по грунтовой дороге со стороны огородов.
«Стоять!» – в этом командном оклике сзади, брошенном низким, хриповато-прокуренным, оскалистым голосом, была не только власть или угроза, но и требование откупа.
Мамай появился из малинника, со стороны сарая, над которым и высилась голубятня. Рукава темной лиловой рубахи у него были засучены, на предплечье синел татуированный меч, увитый плющом и змеем с высунутым жалом, на пальцах синело несколько наколотых колец. На голове – полосатая фуражка с длинным козырьком. Тень от козырька делала темные карие глаза глубже и ядовитее.
Он стоял один против троих. Он смотрел на них, троих, не просто как на беспомощных сопляков, и даже не как на рабов или пленников, задолжавших какую-то мзду, он смотрел на них как на тварей – с брезгливой презрительностью.
Взгляд Мамая остановился на Косте:
– Деньги! – негромко произнес Мамай, опалив Костю свирепым взглядом из-под козырька.
– Нету, – пролепетал Костя. – У меня честно нету.
– Попрыгай! – приказал Мамай.
Костя послушно стал прыгать на месте, подтверждая свои слова: денег нет, монеты в карманах не звенят…
– Теперь ты! – кивнул Мамай, глядя прожигающими глазами на Лешку.
Тысяча гипнотизеров не заставили бы Лешку Ворончихина прыгать на месте! А тут всего два слова и один взгляд. Никогда Лешка не чувствовал себя таким жалким, мелким и униженным! Он прыгал на месте перед уркой, покорно, как холоп, лакей, как чмо… Денег у него тоже не имелось – прыгал без звона.
Пашка сунул руку в карман, вытащил пару монет: двугривенный и пятак.
– Вот. Двадцать пять копеек, – сказал он дрожащим голосом.
Мамай оттянул свой карман брюк, приказал:
– Ложь сюда! – Потом он опять обошел леденящим взглядом троицу: – Курево! Всё, какое есть!
– Мы не курим, – на правах старшего за всех ответил Пашка.
– У-у! – ненавистно взвыл Мамай. – Щ-щень! – Его словно покорежило от ненависти, он резким коротким ударом под дых согнул Пашку; наотмашь саданул рукой по лицу Косте, раскровенил губы, и тычком, сильным подлым тычком кулака ударил в лицо Лешке.
– Сорвались! Щ-щень!