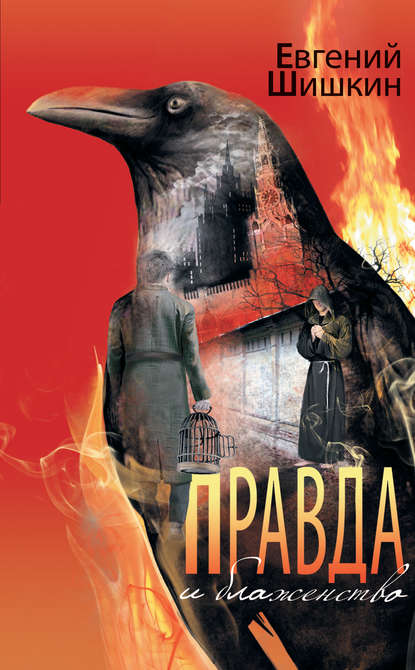По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда и блаженство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
… – Это Костя Сенников один пришел в школу? – тихо спросила Кира Леонидовна.
– Почти что так, – шепнула Ольга Михайловна. – Его до школы соседский мальчик сопровождал. Мать заболела.
– Хм, – самодовольно хмыкнула Кира Леонидовна: она не ошиблась, выбирая героя сегодняшнего дня.
Однако вскоре ее заинтересовал совсем другой мальчик. Сидит, что-то чертит карандашом в чистой тетради, выглядит старше всех, ворон ловит… приподнимается и выглядывает в окно.
– Леша Ворончихин, ты знаешь стихи? – обратилась учительница, опять же по безмолвной указке Киры Леонидовны.
– Очень много! Разные!
– Прочти!
Осень наступила!
Нет уже листов!
И глядят уныло
Страни из кустов…
Слово «странь» на европейском русском Севере имело несколько смыслов: бродяга, странник, неряха, беспутник, но для женского рода главное – блудница, или попросту б…
Ольга Михайловна побледнела, хотя со своей худобой лица и так была бледна, машинально стала оправлять высокую прическу. Кира Леонидовна невозмутимо спросила:
– Кто это сочинил?
– Пушкин! – незамедлительно ответил Леша Ворончихин. – Я еще Маяковского знаю.
– Читай!
– Может, не надо, Кира Леонидовна? – струхнула учительница.
– Надо! Надо сразу узнать материал, с которым придется работать.
XVIII
Пародийно-веселые рифмы Лешка Ворончихин почерпнул у своего дяди. Череп знал их превеликое множество и даже наизусть читал нецензурного Баркова. Сии рифмы, как веселящий бальзам, берегли Черепа от уныния. Судьба корежила планы, жгла мечты, больно прищучивала на изломах, – но душа не чахла, потешаемая балаганным или скабрезным, самонасмешливым или зубастым стишком и присказкой.
В этот сентябрьский день Череп, вывернув пустые карманы клешеных мореманских штанов, по привычке обратился к поэзии:
Нет ни водки, ни микстурки,
Не махнуть ли политурки?
Он мог рассчитывать только на самые непритязательные напитки, ибо все деньги промотал вдрызг. Казалось, в начале отпуска наличности было «как блох на нищем»: зелененькие трешки, синенькие пятерки, красные, с лобастым Ильичом червончики, даже фиолетовый хрусткий четвертак, но теперь в карманах «даже медь не бренчит, елочки пушистые!»
Черепу вспомнилось, что вчера в ресторане его «интеллигентно» вытрясла шайка: две лахудры, Дина и Света, и с ними Эдуард, с бородкой клинышком, якобы музыкант-трубач.
– Сидели в «Конюшне», кабак так называется, «Русская тройка», гульванили, – рассказывал Череп семейству Ворончихиных. – Шикарно выпивали, музон лабухам заказывали. Потом я отчалил в гальюн… Вернулся, а курвешек и филина этого, Эдуарда, с кем я прикорешился, нету… Я к Борьке Кактусу… Это мужик такой, вышибалой работает. Башку бреет под ноль, до блеска, потому и кликуха такая – Кактус. «Не видал ли, говорю, ты моего дружбана и парочку шлюшчонок, которые к нам пришвартовались?»
– Ты язык-то прикусывай! – встряла Валентина Семеновна в братовы россказни. – Сыны вон уши навострили. Ты для них образец.
– Пускай слушают. Каленее в жизни будут. Правда жизни еще никому не навредила! – нашелся с ответом Череп. – Вышибала Кактус зубы скалит… «Ищи ветра в поле…» Они, курвочки эти и филин этот, с кухней шуры-муры. Через кухню, черным ходом – и тю-тю… Метрдотель харю танком: ничего не видел, счет оплатите за весь столик… Обезжирили меня по самый копчик! – Череп закурил сигарету, присмурел на минутку; вспомнил милую, чернокудрую, усастенькую Дину, на которую вчера сильно воспалился, волоокую, блондинистую, квелую Свету, в которой нет темперамента, но есть покорность и податливость, и гаденыша Эдуарда, трубача; как признался после Кактус, Трубачом его прозвали не за умение играть на духовом инструменте, а за то, что выпендривался и курил трубку, напуская на себя аристократический вид: «легче ушастых раскошелить»… Ладно! – махнул рукой Череп. – Не жалей, что было. Не живи уныло. Береги, что есть… Складываться пора. Во Владик покантую. В бухту Золотой Рог. Там поищу счастья, елочки пушистые.
– В чем для тебя оно, счастье-то? – спросила Валентина Семеновна.
– Счастье-то? Счастье человечье из трех частей состоит. Хорошо выпить… Не надраться, как свинья. А хо-ро-шо… Вина или немного крепкого напитка. Второе: отлично закусить. Можно просто закусить. А тут – отлично! И третье… В радость… Заметьте – в радость! В радость отлюбить женщину…
Валентина Семеновна не откликнулась, вздохнула.
– С деньгами-то как? Подсобить тебе, Николай? – предложил Василий Филиппович.
– Вывернусь. К батьке загляну. Он на фартовую должность сел. Башлей у него – как у дурака махорки.
Семен Кузьмич и впрямь, подергав за невидимые нити связей, которые нащупал на зоне, устроился начальником «конторы очистки», попросту говоря – начальником местной свалки; должность мазёвая, приблатненная; на таких должностях с пустой мошной не живут.
– К Серафиме зайди, попрощайся! – настрого заявила Валентина Семеновна, наблюдая, как брат раскрыл для сборов черный дерматиновый чемодан с металлическими уголками. Изнутри чемодан сплошь был исклеен журнальными полунагими девками зарубежного виду.
– Долгие проводы – лишние сопли, – ответил Череп, раскладывая по местам свое дорожное хозяйство: умывальные и бритвенные принадлежности, свежую тельняшку, сатиновые трусы, щетки для чистки обуви и одежды, с полсотни амулетиков из перламутровых ракушек на злаченых гасничках, стянутых черной резинкой от велосипедной камеры. – Я жениться на ней все равно не собираюсь. Она не целка, потасканная уже…
– Сволочь ты, Николай! – не стерпела Валентина Семеновна. – Какая ж она потасканная!
Сестрино оскорбление Череп принял по-родственному снисходительно, без обиды, буркнул для разрядки:
– Передай, что вызвали меня срочно. На боевое дежурство… – Тут Череп оживился, выхватил из чемодана листок бумаги с трафаретом морского якоря, химический карандаш и что-то набросал на листке: – Адрес мой. У нас там база. Пускай Сима письмами валит, елочки пушистые!
Он обнялся с сестрой и зятем Василием Филипповичем, напоследок прижал к бокам племяшей:
– Тельняшки вам вышлю. Ждите! – И вышел, не рассусоливая, за порог.
Валентина Семеновна приклонилась к окну, чтобы посмотреть на уходящего бесприютного брата. Когда он миновал палисад, она заглянула в листок, оставленный для Серафимы. «Остров Madagaskar. Box 489. Смолянинову Ник. Сем.» Она снова взглянула в окошко, чтобы увидать путаника Николая, но теперь его скрывал пожелтевший, обсыпающийся вишенник у соседского дома.
На Вятск налегал сентябрь.
Солнце еще храбрилось, обильно лило желтый свет на здешние широты, но огромные кучевые облака плыли над землей низко, и тень от них была холодна. Вода в реке Вятке померкла и спала. Прибрежные ветлы еще оставались зелены и густы, но тихи, раздумчивы и печальны. Раздумчива и печальна была в эту рыжеющую пору Серафима Рогова.
– Беременна я, мама… Чего делать-то? На аборт идти? – созналась Серафима, требуя совета.
Анна Ильинична не паниковала, неколебимо рассудила:
– Рожай! Пока здоровье есть во мне, дитё выхожу… Тут и мой грех. Сама тебя на свиданку толкнула.
Серафима кинулась со слезами в объятия матери.
В ночь, узнав накануне, что Николай укатил из Вятска куда-то на восток, Серафима долго-долго не спала: вспоминала роковое свидание на берегу под ивами, так и сяк обдумывала свое поведение и уступку; близость не приносила ей радости, и мужчину она попробовала опять из любопытства, по женскому наитию, так, мол, надо, потом приучится, и будет приятно… Поплакала горько; затем радостно помечтала о том, что Николай на будущий год приедет опять отпускником и, увидев своего кровинушку первенца, поведет ее под венец; безмолвно шептала обращенные к кому-то мольбы: чтоб родился сынок, это и для Николая ближе, да и если даже сыночек уродится рябым, рыжим, так для парня – наружность не главное. Успокоенная этой надёжей, Серафима уснула.
Темная ясная ночь, с прозрачным, по-осеннему стылым воздухом, с мириадами звезд, которые магнетическим светом чаровали бессонные глаза влюбленных и сторожей, покрывала прибрежные холмы у реки Вятки, окутывала старый русский город Вятск.
Основанный и построенный как крепость, имевший когда-то деревянный кремль и пространный трудовой посад, город пережил варварские набеги разношерстых племен, родственное княжье предательство и гражданские бойни и казни; пережил время славы и расцвета в периоды романовского царствования, почти бескровный революционный переворот 17-го, истребительный голод тридцатых советских годов, тяготу немецкого нашествия, хоть и не мучился под пятой оккупанта, и светлую честь Победы. Таких городов по России множество; считано, что каждый второй русский человек на земле оттуда выходец.
Часть вторая
– Почти что так, – шепнула Ольга Михайловна. – Его до школы соседский мальчик сопровождал. Мать заболела.
– Хм, – самодовольно хмыкнула Кира Леонидовна: она не ошиблась, выбирая героя сегодняшнего дня.
Однако вскоре ее заинтересовал совсем другой мальчик. Сидит, что-то чертит карандашом в чистой тетради, выглядит старше всех, ворон ловит… приподнимается и выглядывает в окно.
– Леша Ворончихин, ты знаешь стихи? – обратилась учительница, опять же по безмолвной указке Киры Леонидовны.
– Очень много! Разные!
– Прочти!
Осень наступила!
Нет уже листов!
И глядят уныло
Страни из кустов…
Слово «странь» на европейском русском Севере имело несколько смыслов: бродяга, странник, неряха, беспутник, но для женского рода главное – блудница, или попросту б…
Ольга Михайловна побледнела, хотя со своей худобой лица и так была бледна, машинально стала оправлять высокую прическу. Кира Леонидовна невозмутимо спросила:
– Кто это сочинил?
– Пушкин! – незамедлительно ответил Леша Ворончихин. – Я еще Маяковского знаю.
– Читай!
– Может, не надо, Кира Леонидовна? – струхнула учительница.
– Надо! Надо сразу узнать материал, с которым придется работать.
XVIII
Пародийно-веселые рифмы Лешка Ворончихин почерпнул у своего дяди. Череп знал их превеликое множество и даже наизусть читал нецензурного Баркова. Сии рифмы, как веселящий бальзам, берегли Черепа от уныния. Судьба корежила планы, жгла мечты, больно прищучивала на изломах, – но душа не чахла, потешаемая балаганным или скабрезным, самонасмешливым или зубастым стишком и присказкой.
В этот сентябрьский день Череп, вывернув пустые карманы клешеных мореманских штанов, по привычке обратился к поэзии:
Нет ни водки, ни микстурки,
Не махнуть ли политурки?
Он мог рассчитывать только на самые непритязательные напитки, ибо все деньги промотал вдрызг. Казалось, в начале отпуска наличности было «как блох на нищем»: зелененькие трешки, синенькие пятерки, красные, с лобастым Ильичом червончики, даже фиолетовый хрусткий четвертак, но теперь в карманах «даже медь не бренчит, елочки пушистые!»
Черепу вспомнилось, что вчера в ресторане его «интеллигентно» вытрясла шайка: две лахудры, Дина и Света, и с ними Эдуард, с бородкой клинышком, якобы музыкант-трубач.
– Сидели в «Конюшне», кабак так называется, «Русская тройка», гульванили, – рассказывал Череп семейству Ворончихиных. – Шикарно выпивали, музон лабухам заказывали. Потом я отчалил в гальюн… Вернулся, а курвешек и филина этого, Эдуарда, с кем я прикорешился, нету… Я к Борьке Кактусу… Это мужик такой, вышибалой работает. Башку бреет под ноль, до блеска, потому и кликуха такая – Кактус. «Не видал ли, говорю, ты моего дружбана и парочку шлюшчонок, которые к нам пришвартовались?»
– Ты язык-то прикусывай! – встряла Валентина Семеновна в братовы россказни. – Сыны вон уши навострили. Ты для них образец.
– Пускай слушают. Каленее в жизни будут. Правда жизни еще никому не навредила! – нашелся с ответом Череп. – Вышибала Кактус зубы скалит… «Ищи ветра в поле…» Они, курвочки эти и филин этот, с кухней шуры-муры. Через кухню, черным ходом – и тю-тю… Метрдотель харю танком: ничего не видел, счет оплатите за весь столик… Обезжирили меня по самый копчик! – Череп закурил сигарету, присмурел на минутку; вспомнил милую, чернокудрую, усастенькую Дину, на которую вчера сильно воспалился, волоокую, блондинистую, квелую Свету, в которой нет темперамента, но есть покорность и податливость, и гаденыша Эдуарда, трубача; как признался после Кактус, Трубачом его прозвали не за умение играть на духовом инструменте, а за то, что выпендривался и курил трубку, напуская на себя аристократический вид: «легче ушастых раскошелить»… Ладно! – махнул рукой Череп. – Не жалей, что было. Не живи уныло. Береги, что есть… Складываться пора. Во Владик покантую. В бухту Золотой Рог. Там поищу счастья, елочки пушистые.
– В чем для тебя оно, счастье-то? – спросила Валентина Семеновна.
– Счастье-то? Счастье человечье из трех частей состоит. Хорошо выпить… Не надраться, как свинья. А хо-ро-шо… Вина или немного крепкого напитка. Второе: отлично закусить. Можно просто закусить. А тут – отлично! И третье… В радость… Заметьте – в радость! В радость отлюбить женщину…
Валентина Семеновна не откликнулась, вздохнула.
– С деньгами-то как? Подсобить тебе, Николай? – предложил Василий Филиппович.
– Вывернусь. К батьке загляну. Он на фартовую должность сел. Башлей у него – как у дурака махорки.
Семен Кузьмич и впрямь, подергав за невидимые нити связей, которые нащупал на зоне, устроился начальником «конторы очистки», попросту говоря – начальником местной свалки; должность мазёвая, приблатненная; на таких должностях с пустой мошной не живут.
– К Серафиме зайди, попрощайся! – настрого заявила Валентина Семеновна, наблюдая, как брат раскрыл для сборов черный дерматиновый чемодан с металлическими уголками. Изнутри чемодан сплошь был исклеен журнальными полунагими девками зарубежного виду.
– Долгие проводы – лишние сопли, – ответил Череп, раскладывая по местам свое дорожное хозяйство: умывальные и бритвенные принадлежности, свежую тельняшку, сатиновые трусы, щетки для чистки обуви и одежды, с полсотни амулетиков из перламутровых ракушек на злаченых гасничках, стянутых черной резинкой от велосипедной камеры. – Я жениться на ней все равно не собираюсь. Она не целка, потасканная уже…
– Сволочь ты, Николай! – не стерпела Валентина Семеновна. – Какая ж она потасканная!
Сестрино оскорбление Череп принял по-родственному снисходительно, без обиды, буркнул для разрядки:
– Передай, что вызвали меня срочно. На боевое дежурство… – Тут Череп оживился, выхватил из чемодана листок бумаги с трафаретом морского якоря, химический карандаш и что-то набросал на листке: – Адрес мой. У нас там база. Пускай Сима письмами валит, елочки пушистые!
Он обнялся с сестрой и зятем Василием Филипповичем, напоследок прижал к бокам племяшей:
– Тельняшки вам вышлю. Ждите! – И вышел, не рассусоливая, за порог.
Валентина Семеновна приклонилась к окну, чтобы посмотреть на уходящего бесприютного брата. Когда он миновал палисад, она заглянула в листок, оставленный для Серафимы. «Остров Madagaskar. Box 489. Смолянинову Ник. Сем.» Она снова взглянула в окошко, чтобы увидать путаника Николая, но теперь его скрывал пожелтевший, обсыпающийся вишенник у соседского дома.
На Вятск налегал сентябрь.
Солнце еще храбрилось, обильно лило желтый свет на здешние широты, но огромные кучевые облака плыли над землей низко, и тень от них была холодна. Вода в реке Вятке померкла и спала. Прибрежные ветлы еще оставались зелены и густы, но тихи, раздумчивы и печальны. Раздумчива и печальна была в эту рыжеющую пору Серафима Рогова.
– Беременна я, мама… Чего делать-то? На аборт идти? – созналась Серафима, требуя совета.
Анна Ильинична не паниковала, неколебимо рассудила:
– Рожай! Пока здоровье есть во мне, дитё выхожу… Тут и мой грех. Сама тебя на свиданку толкнула.
Серафима кинулась со слезами в объятия матери.
В ночь, узнав накануне, что Николай укатил из Вятска куда-то на восток, Серафима долго-долго не спала: вспоминала роковое свидание на берегу под ивами, так и сяк обдумывала свое поведение и уступку; близость не приносила ей радости, и мужчину она попробовала опять из любопытства, по женскому наитию, так, мол, надо, потом приучится, и будет приятно… Поплакала горько; затем радостно помечтала о том, что Николай на будущий год приедет опять отпускником и, увидев своего кровинушку первенца, поведет ее под венец; безмолвно шептала обращенные к кому-то мольбы: чтоб родился сынок, это и для Николая ближе, да и если даже сыночек уродится рябым, рыжим, так для парня – наружность не главное. Успокоенная этой надёжей, Серафима уснула.
Темная ясная ночь, с прозрачным, по-осеннему стылым воздухом, с мириадами звезд, которые магнетическим светом чаровали бессонные глаза влюбленных и сторожей, покрывала прибрежные холмы у реки Вятки, окутывала старый русский город Вятск.
Основанный и построенный как крепость, имевший когда-то деревянный кремль и пространный трудовой посад, город пережил варварские набеги разношерстых племен, родственное княжье предательство и гражданские бойни и казни; пережил время славы и расцвета в периоды романовского царствования, почти бескровный революционный переворот 17-го, истребительный голод тридцатых советских годов, тяготу немецкого нашествия, хоть и не мучился под пятой оккупанта, и светлую честь Победы. Таких городов по России множество; считано, что каждый второй русский человек на земле оттуда выходец.
Часть вторая