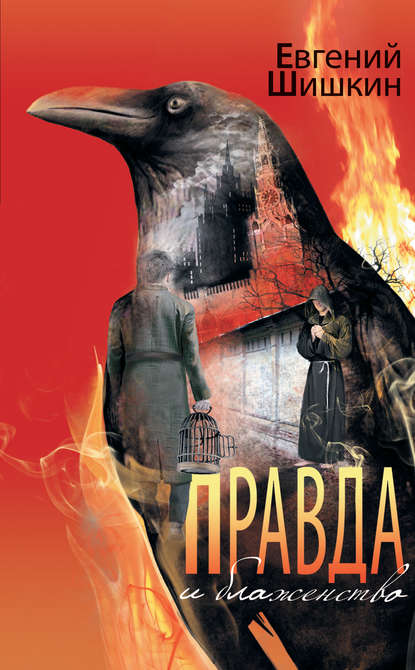По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда и блаженство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, Костенька, не переживаю.
О том, что Полковник не только захаживает в «Мутный глаз», но наведывается на огонек к Серафиме Роговой, судачила вся округа. В последний год Федор Федорович не таился даже от Маргариты. Все чего-то ждали, ведь жизнь любит какой-никакой порядок и устрой, твердость морали, – ждали женской ссоры Маргариты и Серафимы, развода… Но ничего взрывного не случалось. Штиль и загадочность. Семью Федор Федорович не покидал, столовался вместе, хотя жительствовал больше в одиночку, в своей комнате.
– Пусть ходит, куда хочет. Мне все равно, – прибавила Маргарита.
– Вам, правда, все равно? – спросил Костя.
– Нашим легче, – усмехнулась Маргарита.
– А мне, мама, намного стало легче! – оживленно признался Костя.
Маргарита, собравшаяся было налить себе еще одну рюмку водки, насторожилась, устремила глаза на сына.
– Говорят «безотцовщина»… По мне, так лучше безотцовщина, чем страх и ненависть… Теперь-то хорошо, отец нас почти не донимает. А раньше, когда он издевался, я ночами лежал и думал, как его убить… (Впервые при Маргарите он назвал отца отцом, прежде называл исключительно папой.) Странно как-то… Я уличного бандита испугался. Пальцем против него пошевелить не мог… И тогда, в боксе… Пусть бокс дурацкий был – я по лицу забоялся соперника ударить. Не смог по лицу кулаком… А хотел отца убить. Задушить его спящего. Отравить. Или кочергой по голове…
Кошка Марта спрыгнула с кровати, словно бы для нее этот разговор слишком серьезен. Папироса потухла в руке Маргариты, вернее, Маргарита не смела курить, слыша сыновнее признание. Приступ падучей, вероятно, всколыхнул Костю, развязал язык.
– Он побьет вас, меня прогонит. Или сам я убегу… А ночью лежит на диване, храпит… Я и придумывал ему казнь. Однажды яд приготовил. Дуст, селитра со спичек, уксус… В вино хотел добавить. Но забоялся… Если бы я его убил, всё бы раскрылось. Меня бы посадили. А в тюрьме я бы не выдержал. Страшно… У нас из класса паренька одного посадили, Петьку Хомякова. Потом он вернулся через полгода из колонии и рассказывал, как там издеваются… Там, мама, они для новенького устраивают свой собственный суд. Малолетние преступники выбирают своего прокурора, судью, защитника. Слушают дело и выносят приговор. Петьке Хомякову вынесли приговор: стоять на табуретке с вытянутыми руками. Несколько табуреток ставят одну на одну, и на верхнюю – осужденного. Если он руки чуть опустит, палач дергает веревку, которая к нижней табуретке привязана. Вся пирамида падает… Я бы такого не вынес. Я боли боюсь…
– Господи! Костенька! – слезным криком разразилось Маргаритино сердце. – Что же это у тебя в душе-то делается!
Маргарита кинулась к сыну, притиснула к себе. А Костя все говорил:
– Сейчас мне легче. Намного легче… Может, приступ – предупреждение мне? Может, это и хорошо, мама? Плакать совсем не надо… Отцу не рассказывайте про мою болезнь.
VI
Случись такое прежде – схлопотала бы Маргарита крепкую оплеуху от мужа. По причине своей рассеянности, которая все чаще доставляла неувязки для окружающих, Маргарита постирала, не спросясь, мужнины брюки. Не проверила карманы – в кармане оказалась важная записка, которую Федор Федорович держал отдельно от других бумаг, не в пиджаке.
Федор Федорович, утратя документ, понес было Маргариту:
– Кто тебя просил, дуру? – Но тут же смолк, заметив, как испуганно и в то же время ожесточенно, волком глядит на него Костя. Желваки выперли на худых скулах Федора Федоровича, он отопнул со зла ластившуюся к ногам Марту и вышел из дому, громыхнув дверью.
Идя по улице, Федор Федорович вспоминал войну. Эти воспоминания всегда его успокаивали.
Сорок второй год. Жаркое лето. Придонье. Разбитые, размызганные части отступали к Волге: на машинах, в обозах, пешим ходом – раненые и здоровые, подавленные, вырвавшиеся из окружения и неравных боев, не годные к сопротивлению. Вперекор он, старший лейтенант Сенников, в составе пехотного полка вел свою роту навстречу фрицам. Кто-то должен был держать оборону, прикрывать отход излохмаченных войск. Он, насупясь, порицательно взирал на отступающих, вполне дееспособных солдат и офицеров с кубарями в петлицах и хотел призвать: «Что ж вы драпаете? Чего так бесславно сдали фронт?» Вопрос этот сам собой снимется через несколько суток. Полк еще на марше будет атакован с воздуха, попадет под массированный минометный огонь немцев и вскоре вольется в обратные жидкие струйки отступающих военных к Волге. Но перед этим рота Сенникова все же примет бой, даже получит приказ атаковать немецкий рубеж близ хутора Кусачий, что недалеко от Миллерово, чтобы внезапным прорывом линии фронта связать вал врага.
Ни взводные офицеры, ни солдаты не хотели атаки: лезть под мины и очереди пулеметов ради призрачной застопорки врага – ведь повсюду повальное отступление, и не могут найти концов не только рот, полков, даже целых армий. «Приказ на войне – это приказ!» – выкрикнул перед строем роты старший лейтенант Сенников. Он за шкирку вышвыривал солдат из траншеи, площадным матом гнал их на обреченный штурм. Рядового Челнокова он пнул сапогом в живот. Челноков, бледный с испугу, сидел сжавшись в небольшой норе, в ответвлении траншеи, надвинул на голову каску и сжал винтовку перед собой, как палку. «Вперед!» – взвыл Сенников, но Челноков задрожал и пришипился. Во взгляде его колыхался страх и ненависть… Тогда он пнул солдата в живот, и Челноков захлебнулся воздухом, осел, выпучив глаза. Возиться с ним было некогда – Сенников шел по окопу дальше, чтоб кулаком, сапогом и трехэтажным матом взбодрить засидевшихся воинов.
Больше Федор Федорович никогда не видел рядового Челнокова. Его убили, он сдался в плен, дезертировал, с ошметками подразделений вернулся на пункт формирования новых частей или умер от удара сапогом – этого он не знал и против графы «красноармеец Челноков В. А.» поставил в рапорте «пропал без вести». Эта черствая, подловатая и всеискупающая формулировка «пропал без вести» всегда возмущала Сенникова. Что значит пропал без вести? Либо погиб, либо взят в плен, либо дезертир и предатель! Пропасть без вести человек с руками, с ногами, с головой даже на войне не может!
Почему он думал сейчас о рядовом Челнокове? Костя, сын, напомнил ему этого рядового. В его взгляде тоже мелькнула ненависть, замешенная на животном страхе.
В дом к Серафиме Федор Федорович свернул с улицы без всякой утайки. На кривотолки толпы он начхал, угрызений перед семьей не испытывал. Правильно, что не остался вечерять дома – чтобы не видеть, не раздражаться от раззявы жены и припадочного сына; о приступе сына Федор Федорович, разумеется, узнал.
Серафима встречала его всегда с пугливой радостью. Чем больше он заходил к ней и чаще оставался на ночь, тем ближе он становился ей, тем выше она ценила себя; ни про какую свою ущербную рыжатину уж и не вспоминала.
Федор Федорович любил коньяк. Он выпивал стопку перед ужином, другую не спеша тянул после. Ел он медленно, основательно и помногу. Тут опять выплывал Серафиме плюс – стало быть, готовка ее гостю по душе. Никогда, ни разу, ни в разговоре, ни в застолье, ни на пуховом ложе не было между ними даже мизерного раздрая, спору или взаимного укора. Они могли целый вечер промолчать, но не испытывали от такого безмолвия тяготы или отчуждения. А если и говорили, то без захлеба, ровно и светло. Федор Федорович расскажет, бывало, какие кудрястые вишни в Австрии, какие красивые мосты в Будапеште, какие чистые пивные – гаштеты по-ихнему – в Германии. Потом отхлебнет коньяку и закурит папиросу. Серафиме нравилось, как он курит. Раздумчиво, глубоко. Благостная тишина наступала в доме. Язык почесать, с народом повидаться – Серафиме хватало своей закусочной.
Однажды – на Женский день – он подарил Серафиме длинные бусы с мелкими агатовыми камнями, в несколько витков на шею. Серафима возьми да брякни: «А Маргарите своей купил такие?» Федор Федорович посмотрел на Серафиму с грубым недоумением и как будто стал вспоминать, кто такая Маргарита. Серафима язык прикусила и больше никогда про его семью не спрашивала; перестала себя казнить, что у живой жены уводит мужика. Судьбой, значит, писано.
Чем ближе ночь, тем чаще стучит сердце Серафимы. Федор Федорович поднимается из-за стола, обнимает Серафиму за талию, и по всему ее телу идет сладостный ток. Через несколько минут на постели она задыхается в исступлении, теряет разум от плотской желанной страсти, от его мужской силы и господства. Впивается пальцами в перину, рвет ее, кусает свои губы, давит стон и крик, чтобы не взвыть оглашенно, не разбудить мать и не напугать сына Колюшку, которые за стеной.
Федор Федорович овладевал ею бесцеремонно, не нежил, они даже в губы целовались редко, но Серафима скоро заводилась с ним, пылала, таяла, расстилалась перед ним и проваливалась в обморок счастливой близости. В своих объятиях он душил ее, жал, стискивал в сладостных судорогах, но никогда на ее веснушчатом, пумпушистом, сдобном теле не оставалось синяков или следов поцелуев-укусов. Серафима разглядывала себя в трюмо и дивилась: знать, по любви, по сердечному хотению ее близость, ежели тело ее так послушно и радостно его власти.
Пережив счастливую отключку, Серафима некоторое время стыдливо приходила в себя, отпыхивала, а после, накинув халат, бежала в погреб, несла Федору Федоровичу холодного квасу. Он пил из ковша квас, она ластилась к его плечу, целовала, благодарная за горячку любви и оглушительное постельное наслаждение.
– В торге худо у нас, – как ручеек журчал голос Серафимы. – Товару нету совсем. Торговать нечем. Даже посуды нету. Кружки пивные наперечет… Неужели опять карточки на продукты введут?
Федор Федорович, лежа в постели, курил. Дым плыл в сторону торшера, овевал крапчато-розовый абажур.
– А вдруг к войне готовятся? Чего там слыхать, Федор? Ты военный, образованный, знаешь расклад. Глядишь, припасы какие-то на войну с Америкой копят?
– Я уже не военный. Хрущев порубал армию. Даже мою боевую часть сдал под сокращение, – ответил Федор Федорович. – А к войне всегда надо готовиться. Война – дело нужное.
– Да как же это? Нужное? Столько много людей в прошлой войне кануло… – удивилась Серафима, скосила глаза на рамку на стене, где средь семейных фотографий лепилась довоенная карточка погибшего отца.
– Война будет. Она нужна. Народ должен жить навытяжку. Народ надо держать в кулаке, – ответил он бестрепетно и, казалось, безадресно.
Федор Федорович потушил папиросу, подложил под голову ладони и отрешился от всего. Он сейчас опять выловил в памяти рядового Челнокова. Челноков был трусом. Он пропал не без вести. Он пропал совсем, навсегда. Но дезертир Шамаев? Он ведь не был трусом. И тоже пропал навсегда. Его расстреляли.
В сорок втором вышел приказ Главнокомандующего И.В. Сталина за номером 227, которому приклеилось «Ни шагу назад». Приказ был необходим, его отчеканила не жестокая воля Верховного, а само время и суть войны. Войска расклеились, повально отступали, командиры не могли совладать с подчиненными, сами являли капитулянтство и скудоумие, но не образцы храбрости. А фронт надо было держать. Любой ценой. Ценой сотен тысяч русских голов. Волгу фриц перейти не должен. Немца нужно ввести в зиму…
Красноармейца Шамаева прихватили в гражданской одежде. На станции. Остроглазый начальник патруля подметил сидор пассажира, сунулся с досмотром, там оказалась военная форма и документы. Вердикт военно-полевого суда однозначен: «К расстрелу».
– Старший лейтенант Сенников, вам поручается привести приговор в исполнение. Шамаев был рядовым вашей части. Другим – неповадно будет!
Приговор Шамаеву прочитали перед строем батальона, а на расстрел повели в рощу: там воронка от авиабомбы, не надо могилу рыть. Пятеро солдат с винтовками, смертник Шамаев и старший лейтенант Сенников, командир расстрельной команды.
– Токо штоб враз убейте, штоб не мучился. В сердце цельтесь, не в башку. Башку жалко! – говорил Шамаев. Говорил обыденно и просто, словно вели его не на казнь, а к дантисту – удалять зуб.
Сенников смотрел на него без жалости, но и без небрежения. Ему уже доводилось присутствовать на расстреле дезертира, и приговоренный стал метаться, падать на колени, кричать, извиваться, пришлось его связывать, на голову надевать мешок, – зрелище противное. Как бы Шамаев не выкинул такое же коленце.
Дошли до воронки.
– Хм, неглубокая. Шо, больше не было? – возмутился Шамаев.
Никто ему ничего не ответил.
– Закурить дайте. Напоследок! – попросил Шамаев.
Солдаты переглянулись. Сенников достал портсигар, достал папиросу, передал папиросу бойцу, а тот Шамаеву. Приговоренный закурил, сел на ближний бугорок.
– Дезертир, дезертир, – передразнил он кого-то. – Хм, какой я на хер дезертир! – Шамаев сидел лохматый, небритый, в грязной белой рубахе и темном пиджаке. – В сорок первом, война токо началась. У нас под Минском тридцать патронов на все отделение было. Тридцать штук на десять винтовок… Хм, иди повоюй!
Сенников, по правилам, должен был пресечь предательскую пропаганду, но он молчал: Шамаев был ему интересен, Шамаев не боялся смерти или пока играл со смертью без мандража – козырными картами.
– Хм, а здесь, под Харьковом… Бросили нас, дорогу перекрыть. Пушка сорокапятка без колеса. Один пулемет «дегтярь», и взвод народу. У отступающих, у отступающих! – потряс кулаком, – боеприпасы отбирали, едритвой лять!
О том, что Полковник не только захаживает в «Мутный глаз», но наведывается на огонек к Серафиме Роговой, судачила вся округа. В последний год Федор Федорович не таился даже от Маргариты. Все чего-то ждали, ведь жизнь любит какой-никакой порядок и устрой, твердость морали, – ждали женской ссоры Маргариты и Серафимы, развода… Но ничего взрывного не случалось. Штиль и загадочность. Семью Федор Федорович не покидал, столовался вместе, хотя жительствовал больше в одиночку, в своей комнате.
– Пусть ходит, куда хочет. Мне все равно, – прибавила Маргарита.
– Вам, правда, все равно? – спросил Костя.
– Нашим легче, – усмехнулась Маргарита.
– А мне, мама, намного стало легче! – оживленно признался Костя.
Маргарита, собравшаяся было налить себе еще одну рюмку водки, насторожилась, устремила глаза на сына.
– Говорят «безотцовщина»… По мне, так лучше безотцовщина, чем страх и ненависть… Теперь-то хорошо, отец нас почти не донимает. А раньше, когда он издевался, я ночами лежал и думал, как его убить… (Впервые при Маргарите он назвал отца отцом, прежде называл исключительно папой.) Странно как-то… Я уличного бандита испугался. Пальцем против него пошевелить не мог… И тогда, в боксе… Пусть бокс дурацкий был – я по лицу забоялся соперника ударить. Не смог по лицу кулаком… А хотел отца убить. Задушить его спящего. Отравить. Или кочергой по голове…
Кошка Марта спрыгнула с кровати, словно бы для нее этот разговор слишком серьезен. Папироса потухла в руке Маргариты, вернее, Маргарита не смела курить, слыша сыновнее признание. Приступ падучей, вероятно, всколыхнул Костю, развязал язык.
– Он побьет вас, меня прогонит. Или сам я убегу… А ночью лежит на диване, храпит… Я и придумывал ему казнь. Однажды яд приготовил. Дуст, селитра со спичек, уксус… В вино хотел добавить. Но забоялся… Если бы я его убил, всё бы раскрылось. Меня бы посадили. А в тюрьме я бы не выдержал. Страшно… У нас из класса паренька одного посадили, Петьку Хомякова. Потом он вернулся через полгода из колонии и рассказывал, как там издеваются… Там, мама, они для новенького устраивают свой собственный суд. Малолетние преступники выбирают своего прокурора, судью, защитника. Слушают дело и выносят приговор. Петьке Хомякову вынесли приговор: стоять на табуретке с вытянутыми руками. Несколько табуреток ставят одну на одну, и на верхнюю – осужденного. Если он руки чуть опустит, палач дергает веревку, которая к нижней табуретке привязана. Вся пирамида падает… Я бы такого не вынес. Я боли боюсь…
– Господи! Костенька! – слезным криком разразилось Маргаритино сердце. – Что же это у тебя в душе-то делается!
Маргарита кинулась к сыну, притиснула к себе. А Костя все говорил:
– Сейчас мне легче. Намного легче… Может, приступ – предупреждение мне? Может, это и хорошо, мама? Плакать совсем не надо… Отцу не рассказывайте про мою болезнь.
VI
Случись такое прежде – схлопотала бы Маргарита крепкую оплеуху от мужа. По причине своей рассеянности, которая все чаще доставляла неувязки для окружающих, Маргарита постирала, не спросясь, мужнины брюки. Не проверила карманы – в кармане оказалась важная записка, которую Федор Федорович держал отдельно от других бумаг, не в пиджаке.
Федор Федорович, утратя документ, понес было Маргариту:
– Кто тебя просил, дуру? – Но тут же смолк, заметив, как испуганно и в то же время ожесточенно, волком глядит на него Костя. Желваки выперли на худых скулах Федора Федоровича, он отопнул со зла ластившуюся к ногам Марту и вышел из дому, громыхнув дверью.
Идя по улице, Федор Федорович вспоминал войну. Эти воспоминания всегда его успокаивали.
Сорок второй год. Жаркое лето. Придонье. Разбитые, размызганные части отступали к Волге: на машинах, в обозах, пешим ходом – раненые и здоровые, подавленные, вырвавшиеся из окружения и неравных боев, не годные к сопротивлению. Вперекор он, старший лейтенант Сенников, в составе пехотного полка вел свою роту навстречу фрицам. Кто-то должен был держать оборону, прикрывать отход излохмаченных войск. Он, насупясь, порицательно взирал на отступающих, вполне дееспособных солдат и офицеров с кубарями в петлицах и хотел призвать: «Что ж вы драпаете? Чего так бесславно сдали фронт?» Вопрос этот сам собой снимется через несколько суток. Полк еще на марше будет атакован с воздуха, попадет под массированный минометный огонь немцев и вскоре вольется в обратные жидкие струйки отступающих военных к Волге. Но перед этим рота Сенникова все же примет бой, даже получит приказ атаковать немецкий рубеж близ хутора Кусачий, что недалеко от Миллерово, чтобы внезапным прорывом линии фронта связать вал врага.
Ни взводные офицеры, ни солдаты не хотели атаки: лезть под мины и очереди пулеметов ради призрачной застопорки врага – ведь повсюду повальное отступление, и не могут найти концов не только рот, полков, даже целых армий. «Приказ на войне – это приказ!» – выкрикнул перед строем роты старший лейтенант Сенников. Он за шкирку вышвыривал солдат из траншеи, площадным матом гнал их на обреченный штурм. Рядового Челнокова он пнул сапогом в живот. Челноков, бледный с испугу, сидел сжавшись в небольшой норе, в ответвлении траншеи, надвинул на голову каску и сжал винтовку перед собой, как палку. «Вперед!» – взвыл Сенников, но Челноков задрожал и пришипился. Во взгляде его колыхался страх и ненависть… Тогда он пнул солдата в живот, и Челноков захлебнулся воздухом, осел, выпучив глаза. Возиться с ним было некогда – Сенников шел по окопу дальше, чтоб кулаком, сапогом и трехэтажным матом взбодрить засидевшихся воинов.
Больше Федор Федорович никогда не видел рядового Челнокова. Его убили, он сдался в плен, дезертировал, с ошметками подразделений вернулся на пункт формирования новых частей или умер от удара сапогом – этого он не знал и против графы «красноармеец Челноков В. А.» поставил в рапорте «пропал без вести». Эта черствая, подловатая и всеискупающая формулировка «пропал без вести» всегда возмущала Сенникова. Что значит пропал без вести? Либо погиб, либо взят в плен, либо дезертир и предатель! Пропасть без вести человек с руками, с ногами, с головой даже на войне не может!
Почему он думал сейчас о рядовом Челнокове? Костя, сын, напомнил ему этого рядового. В его взгляде тоже мелькнула ненависть, замешенная на животном страхе.
В дом к Серафиме Федор Федорович свернул с улицы без всякой утайки. На кривотолки толпы он начхал, угрызений перед семьей не испытывал. Правильно, что не остался вечерять дома – чтобы не видеть, не раздражаться от раззявы жены и припадочного сына; о приступе сына Федор Федорович, разумеется, узнал.
Серафима встречала его всегда с пугливой радостью. Чем больше он заходил к ней и чаще оставался на ночь, тем ближе он становился ей, тем выше она ценила себя; ни про какую свою ущербную рыжатину уж и не вспоминала.
Федор Федорович любил коньяк. Он выпивал стопку перед ужином, другую не спеша тянул после. Ел он медленно, основательно и помногу. Тут опять выплывал Серафиме плюс – стало быть, готовка ее гостю по душе. Никогда, ни разу, ни в разговоре, ни в застолье, ни на пуховом ложе не было между ними даже мизерного раздрая, спору или взаимного укора. Они могли целый вечер промолчать, но не испытывали от такого безмолвия тяготы или отчуждения. А если и говорили, то без захлеба, ровно и светло. Федор Федорович расскажет, бывало, какие кудрястые вишни в Австрии, какие красивые мосты в Будапеште, какие чистые пивные – гаштеты по-ихнему – в Германии. Потом отхлебнет коньяку и закурит папиросу. Серафиме нравилось, как он курит. Раздумчиво, глубоко. Благостная тишина наступала в доме. Язык почесать, с народом повидаться – Серафиме хватало своей закусочной.
Однажды – на Женский день – он подарил Серафиме длинные бусы с мелкими агатовыми камнями, в несколько витков на шею. Серафима возьми да брякни: «А Маргарите своей купил такие?» Федор Федорович посмотрел на Серафиму с грубым недоумением и как будто стал вспоминать, кто такая Маргарита. Серафима язык прикусила и больше никогда про его семью не спрашивала; перестала себя казнить, что у живой жены уводит мужика. Судьбой, значит, писано.
Чем ближе ночь, тем чаще стучит сердце Серафимы. Федор Федорович поднимается из-за стола, обнимает Серафиму за талию, и по всему ее телу идет сладостный ток. Через несколько минут на постели она задыхается в исступлении, теряет разум от плотской желанной страсти, от его мужской силы и господства. Впивается пальцами в перину, рвет ее, кусает свои губы, давит стон и крик, чтобы не взвыть оглашенно, не разбудить мать и не напугать сына Колюшку, которые за стеной.
Федор Федорович овладевал ею бесцеремонно, не нежил, они даже в губы целовались редко, но Серафима скоро заводилась с ним, пылала, таяла, расстилалась перед ним и проваливалась в обморок счастливой близости. В своих объятиях он душил ее, жал, стискивал в сладостных судорогах, но никогда на ее веснушчатом, пумпушистом, сдобном теле не оставалось синяков или следов поцелуев-укусов. Серафима разглядывала себя в трюмо и дивилась: знать, по любви, по сердечному хотению ее близость, ежели тело ее так послушно и радостно его власти.
Пережив счастливую отключку, Серафима некоторое время стыдливо приходила в себя, отпыхивала, а после, накинув халат, бежала в погреб, несла Федору Федоровичу холодного квасу. Он пил из ковша квас, она ластилась к его плечу, целовала, благодарная за горячку любви и оглушительное постельное наслаждение.
– В торге худо у нас, – как ручеек журчал голос Серафимы. – Товару нету совсем. Торговать нечем. Даже посуды нету. Кружки пивные наперечет… Неужели опять карточки на продукты введут?
Федор Федорович, лежа в постели, курил. Дым плыл в сторону торшера, овевал крапчато-розовый абажур.
– А вдруг к войне готовятся? Чего там слыхать, Федор? Ты военный, образованный, знаешь расклад. Глядишь, припасы какие-то на войну с Америкой копят?
– Я уже не военный. Хрущев порубал армию. Даже мою боевую часть сдал под сокращение, – ответил Федор Федорович. – А к войне всегда надо готовиться. Война – дело нужное.
– Да как же это? Нужное? Столько много людей в прошлой войне кануло… – удивилась Серафима, скосила глаза на рамку на стене, где средь семейных фотографий лепилась довоенная карточка погибшего отца.
– Война будет. Она нужна. Народ должен жить навытяжку. Народ надо держать в кулаке, – ответил он бестрепетно и, казалось, безадресно.
Федор Федорович потушил папиросу, подложил под голову ладони и отрешился от всего. Он сейчас опять выловил в памяти рядового Челнокова. Челноков был трусом. Он пропал не без вести. Он пропал совсем, навсегда. Но дезертир Шамаев? Он ведь не был трусом. И тоже пропал навсегда. Его расстреляли.
В сорок втором вышел приказ Главнокомандующего И.В. Сталина за номером 227, которому приклеилось «Ни шагу назад». Приказ был необходим, его отчеканила не жестокая воля Верховного, а само время и суть войны. Войска расклеились, повально отступали, командиры не могли совладать с подчиненными, сами являли капитулянтство и скудоумие, но не образцы храбрости. А фронт надо было держать. Любой ценой. Ценой сотен тысяч русских голов. Волгу фриц перейти не должен. Немца нужно ввести в зиму…
Красноармейца Шамаева прихватили в гражданской одежде. На станции. Остроглазый начальник патруля подметил сидор пассажира, сунулся с досмотром, там оказалась военная форма и документы. Вердикт военно-полевого суда однозначен: «К расстрелу».
– Старший лейтенант Сенников, вам поручается привести приговор в исполнение. Шамаев был рядовым вашей части. Другим – неповадно будет!
Приговор Шамаеву прочитали перед строем батальона, а на расстрел повели в рощу: там воронка от авиабомбы, не надо могилу рыть. Пятеро солдат с винтовками, смертник Шамаев и старший лейтенант Сенников, командир расстрельной команды.
– Токо штоб враз убейте, штоб не мучился. В сердце цельтесь, не в башку. Башку жалко! – говорил Шамаев. Говорил обыденно и просто, словно вели его не на казнь, а к дантисту – удалять зуб.
Сенников смотрел на него без жалости, но и без небрежения. Ему уже доводилось присутствовать на расстреле дезертира, и приговоренный стал метаться, падать на колени, кричать, извиваться, пришлось его связывать, на голову надевать мешок, – зрелище противное. Как бы Шамаев не выкинул такое же коленце.
Дошли до воронки.
– Хм, неглубокая. Шо, больше не было? – возмутился Шамаев.
Никто ему ничего не ответил.
– Закурить дайте. Напоследок! – попросил Шамаев.
Солдаты переглянулись. Сенников достал портсигар, достал папиросу, передал папиросу бойцу, а тот Шамаеву. Приговоренный закурил, сел на ближний бугорок.
– Дезертир, дезертир, – передразнил он кого-то. – Хм, какой я на хер дезертир! – Шамаев сидел лохматый, небритый, в грязной белой рубахе и темном пиджаке. – В сорок первом, война токо началась. У нас под Минском тридцать патронов на все отделение было. Тридцать штук на десять винтовок… Хм, иди повоюй!
Сенников, по правилам, должен был пресечь предательскую пропаганду, но он молчал: Шамаев был ему интересен, Шамаев не боялся смерти или пока играл со смертью без мандража – козырными картами.
– Хм, а здесь, под Харьковом… Бросили нас, дорогу перекрыть. Пушка сорокапятка без колеса. Один пулемет «дегтярь», и взвод народу. У отступающих, у отступающих! – потряс кулаком, – боеприпасы отбирали, едритвой лять!