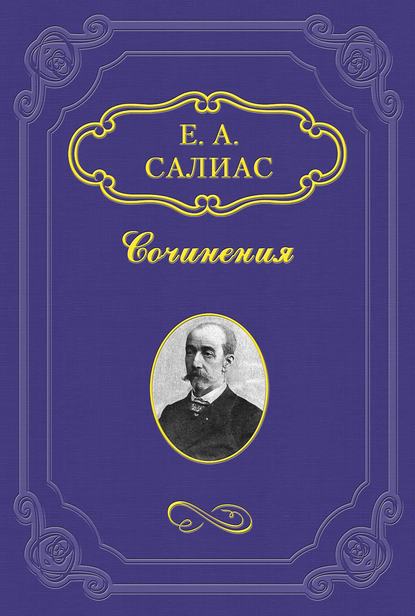По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Авдотья произнесла это невесело, вздыхая и как бы оправдываясь…
– Да ты не винись, – улыбаясь, заметил Шумский. – Подумаешь со стороны, что я тебя осуждаю… Ей Богу!.. И хорошее дело, что у тебя есть на Пашуту такая острастка. А то бы чистая беда была. Смерть чистая была бы мне.
– Верю. Я не винюся, а так, стало быть…
– Сегодня перед вечером и отправляйся к своей фокуснице. Помни, что ты г. Андреева не знаешь. А про графа, про Грузино и про флигель-адъютанта Шуйского говори барышне, что хочешь. Пашутке скажешь, что это мое последнее слово. Или она будет мне слугой, или Настасья Федоровна немедля вытребует ее в Грузино. Если же она тогда в отместку, уходя и прощаясь с баронессой, откроет ей кто я такой, то пойдет в Сибирь на поселение. Если исполнит все мои приказания, то получит вольную. Впрочем, она, каналья, все это давно знает… И ломается! – прибавил Шумский почти печально.
В сумерки Авдотья, несколько волнуясь, собралась и в сопровождении Копчика поехала на Васильевский остров.
За последние два дня Копчик ходил пасмурный, глядел на приезжую мамку исподлобья. Он будто чуял, что названая мать его сестры Пашуты приехала в Петербург ей на горе, а не на радость.
Лакей, сгоряча предложивший Авдотье Лукьяновне повидаться тайно от барина с Пашутой, тотчас же раскаялся. Женщина не просила его об этом, вследствие запрещенья своего питомца, а Копчик не повторял предложенья и молчал, ибо начинал бояться мамки.
Малый знал, что Авдотья любит его сестру, как родную дочь, что Пашута тоже привязана к ней всем сердцем, как к своей спасительнице и второй матери.
«Но давненько обе они не виделись, – думал Васька. – Много воды утекло… Да и любви всякой предел бывает…» Кроме того, Васька видел и знал, что как бы Авдотья Лукьяновна ни любила Пашуту, все-таки ей ее питомец-барин много дороже. Ему она и Пашуту предаст.
Теперь же ей приходилось – Васька знал и понимал это хорошо – выбирать между приемышем и питомцем. На чью сторону склонится женщина – было ясно заранее.
«Чтой-то из всего этого выйдет? Помилуй Бог мою Пашутку!» – думал Васька, провожая женщину в дом барона Нейдшильда. Уж лучше бы Пашуте уступить нашему затевателю… А то пропасть может…
И Васька вплоть до дома барона молчал, как убитый. Авдотья тоже была задумчива, изредка вздыхала тяжело и не сказала ни слова своему спутнику.
– Ну, вот-с, Авдотья Лукьяновна… – выговорил, наконец, Копчик, указывая на дом. – Приехали. Увидите вы не ту Пашуту, что знавали… Жаль мне нельзя с вами!
И молодой малый презрительно улыбнулся при мысли, что он, изредка бывающий тайно у сестры в гостях, теперь не может войти в дом, так как барин это узнает от мамки. Просить ее позволить ему войти с ней к Пашуте и ничего не сказывать барину – напрасный труд.
Таким образом, Авдотья случайно с первого шага в Петербурге становилась как бы во враждебные отношения с ним, Васькой, и с его сестрой.
Женщина вошла во двор дома, а Копчик вернулся обратно и доложил барину, что доставил мамку.
Вечером квартира Шуйского была против обыкновения совершенно темна, а людям было велено отказывать всем, кто бы ни приехал.
Сам хозяин сидел один в спальне, в халате, не раздражительный и угрюмый, как бывало часто за последнее время, а просто задумчивый и печальный.
Его пылкая натура будто начинала уступать гнету обстоятельств, дерзость и самонадеянность временно уступили место тихой грусти.
– Что делать?! Что?! – без конца повторял он и мысленно, и вслух. – Храбриться можно, да толку мало.
Изредка он прислушивался к шуму на улице и в доме, как бы ожидая кого-то… Действительно, он нетерпеливо ждал с часу на час приятеля Квашнина, за которым послал Копчика. Зачем он звал приятеля, он сам не знал. Казалось просто затем, чтобы поговорить откровенно, душу отвести и, пожалуй, посоветоваться.
Наконец, раздались шаги в соседней комнате. Шумский привстал навстречу, но никто не входил.
– Кто там? Квашнин, ты? Иди сюда! – крикнул он громко.
Дверь отворилась и появилась маленькая и худенькая фигурка, чрезвычайно неказистая на вид. Затворив тихонько дверь, фигурка как-то съежилась и поклонилась подобострастно.
– А… Вот кто! Ну, что? – холодно произнес Шумский, снова садясь.
В комнате появился, уже несколько дней отсутствовавший, Лепорелло Шваньский.
– Приехал-с, Михаил Андреевич, – доложил Шваньский, улыбаясь.
– Неужели?
– Да-с… Приехал сейчас.
– Вижу. Не слепой. Привез?
– Привез-с.
– Не обман?
– Как можно-с. Я с тем брал, что если обман, то мы под суд отдадим, в Сибирь сошлем.
– У кого достал…
– Ездил за сто тридцать три версты-с от Новгорода-с. Около Старой Руссы сказали мне-с… Живет человек такой, не то знахарь, не то колдун. Во всей губернии ему почет… Да и боятся его все страсть как… Вот я из Руссы, сказавшись подъячим из Москвы…
– Ну, ладно… Перестань… Это не любопытно. Давай сюда…
Шваньский расстегнул сюртук, бережно достал из бокового кармана что-то небольшое в бумажке и подал молодому человеку.
– Что такое?
– Пузыречек-с…
Шумский развернул бумагу и, вынув маленькую скляницу с мутно-желтой жидкостью, стал смотреть на нее…
– Ну, а если это ядовито? – пробормотал он как бы сам себе…
– Как можно-с, – усмехнулся Шваньский. – Он сказывал, божился пред образами, что самое пустое средство. Только приятный сон дает. И очень крепкий. Хоть, говорит, пори человека розгами – не проснется ранее положенного срока.
– Какого срока? На сколько часов действует?
– На двенадцать-с.
– Все это выпить? Зараз?
– Нет. Тут на три раза. По ложечке. В воде или в чае принимать. А все если дать сразу, то, говорит, будет человек суток двое без просыпу и без всякого дыхания валяться, на подобие мертвого. Даже весь похолодеет, и посинеет. Очень он просил всего не давать зараз.
– Очень? – расхохотался вдруг Шумский.
– Да-с.
– Просил?
– Да-с…