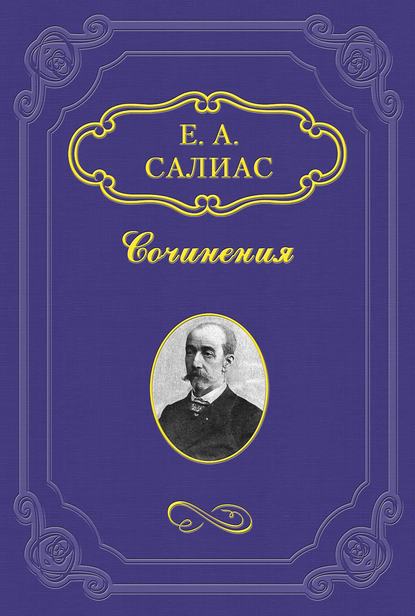По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через полчаса времени, проведенного в полном молчании, Шумский первый заговорил, но тихо и отчасти грустно.
– Простите меня, если я сегодня оскорбил вашу дворянскую и в особенности финляндскую гордость.
Ева улыбнулась добродушно.
– Финляндия тут ни при чем… Я не хочу, чтобы вы мои личные недостатки делали недостатками моей милой родины. Ну, и о гордости дворянской тут не может быть речи… Ведь вы тоже дворянин.
– Да-с… Но ведь, однако, вы оскорбились… Вы меня очевидно простили по доброте сердца. Но все-таки вы были обижены. Оттого я вас вижу сегодня такой молчаливой и задумчивой, какой никогда не видал.
– Вы ошиблись… Какой вы странный, однако! Вы, стало быть, убеждены, что я все время думала об вас, об вашем поступке.
– Конечно.
– И ошиблись совершенно.
– Не думаю. Даже уверен, что прав.
– Вот она – гордость или самолюбие, г. Андреев. Я давно забыла, что вы почему-то поцеловали сегодня у меня руку. Ей-Богу, забыла и теперь опять вы напомнили.
– Почему же вы так молчаливы…
– Я думала об одной своей беде. Об неприятности, которая для меня настоящая беда. Моя любимица – Пашута – принадлежит графу Аракчееву, человеку злому… Мне хотелось выкупить Пашуту! Барон, отец мой, писал графу, но до сих пор нет никакого ответа. И, стало быть, не будет. Я не знаю, что делать… Я об этом целые дни думаю. Иногда ночью во сне брежу этим. И теперь тоже об этом задумалась.
Шумский вздохнул и ничего не ответил.
Наступило снова долгое молчание…
Шумский кончил часть платья и, сложив все карандаши в коробку, выговорил, вдруг решаясь на роковой для себя вопрос.
– Г. фон Энзе ваш родственник, баронесса? – И он пристально и пытливо глянул на девушку.
– Да, – просто отозвалась Ева.
– И, кажется, вы его очень близко знаете…
– Да.
– Я хочу сказать, что барон очень любит фон Энзе, а вы его любите…
– Что? Я вас не понимаю! – глухо отозвалась Ева.
– Нет, баронесса вы меня поняли! – произнес Шумский резко и встал с места…
– Нет, г. Андреев. Я вас не понимаю. Если бы я думала, что я вас поняла, то сочла бы нужным покинуть комнату и, прекратив сеансы немедленно, оставить портрет не оконченным. Я вас не поняла! Я слишком хорошего об вас мнения, чтобы вашу обмолвку принять за умышленную дерзость…
– Ради Бога. Правду!.. – с полным отчаяньем страстно воскликнул Шумский, приближаясь к сидящей Еве и готовый упасть перед ней на колени. – Правду мне нужно. Вы все поняли, понимаете… Я даю слово молчать целый век, никогда ни единым словом не обмолвиться. Но теперь, сейчас, отвечайте мне правду. Не играйте словами, не обижайтесь… Скажите мне одно слово: фон Энзе ваш жених?
– Никогда. Бог с вами…
– Но вы его… Простите! Умоляю вас! Вы его любите?
– Г. Андреев. Я от вас не ждала…
– И он без ума от вас! Он вас любит!
Ева опустила глаза и лицо ее стало сумрачно.
– Ведь это правда? Одно слово…
Ева молчала.
– Вы не хотите отвечать?
– Довольно, г. Андреев… Еще одно слово и… мой портрет останется неоконченным.
– Но я не могу так оставаться в неизвестности! – вскрикнул Шумский. – Я хочу знать! Слышите ли вы! Я хочу знать. Жених ли он ваш, избранный вам бароном.
Ева поднялась с места и двинулась в свою комнату. Шумский бросился к ней и уже хотел взять за руку, чтобы остановить.
– Одно слово… Бога ради! Из жалости, наконец. Одно слово! Но правду! правду!
Голос молодого человека, очевидно сразу, неотразимо подействовал на баронессу, и она отозвалась шепотом.
– Фон Энзе теперь не жених…
– Вы его любите?..
– Не знаю. Может быть. Я не умею, не могу любить. Я уже это сказала раз. Но за то, теперь прибавлю, что портрет… Сеансов больше не будет!.. Прощайте.
Баронесса быстро, не глядя и не подымая головы, скрылась за дверью… Шумский бросился к мольберту, хотел сорвать бумагу с доски и одним движеньем разорвать портрет пополам, но остановился и схватился за голову.
Через минуту он выходил из дома барона с сильно изменившимся лицом.
– Или всему конец, или все начнется! – бормотал он, ничего не видя и не сознавая кругом себя.
XIII
Действовать! Не унывать! Дерзость всемогуща!.. Она его еще не любит… Она не стала бы лгать… Она сказала… «Не знаю, не думаю». Это искренно, правдиво, прелестно сказано! Она, быть может, способна полюбить его. Но теперь еще не любит. Меня не любит и говорит, что не может любить… Теперь?! Да. Увидим, что будет, когда я возьму ее… Но надо действовать…
Вот что думал и бормотал Шумский, ворочаясь домой. Едва только вступил он в свою квартиру, как приказал позвать мамку к себе в спальню.
– Ну, Авдотья… то бишь Дотюшка. Совсем пора тебе орудовать. Иди к Пашуте в гости. Скажись, что приезжая из Грузина, и тебя к ней пустят. Готова ли ты свое это… страшное слово-то говорить…
– Что ж… На то видно воля Божья! – вздохнула Авдотья. – Думала во веки никогда не сказывать. А вот, стало быть, надо… Ведь, сказываете, вся жисть твоя от барышни этой в тоску обратилась. А все сказываете от Пашуты зависит. Ну, а на Пашуту я только одно слово знаю… Ничем ее другим не возьмешь… Стало быть, что же мне-то делать… Волей неволей – а мое это слово выронить надо…
– Выронить?!
– Вестимо… Душу выкладывать на ладонь – опасливо… Я бы во веки не стала… Твой указ…