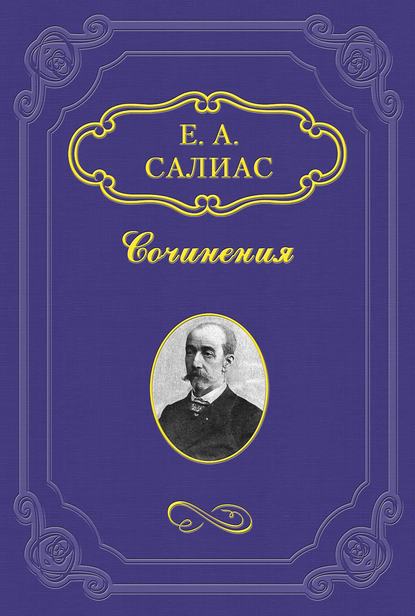По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты должна ей объяснить, что если она на сих днях не исполнит того, что я потребую, то я ее немедленно возьму от баронессы. Не пойдет охотой, я ее от имени графа вытребую через полицию, как крепостную. Затем, конечно, отправлю обратно в Грузино, а уж там она пойдет прямо на скотный двор, где ее маменька прикажет пороть розгами, сколько вздумается главному скотнику Еремею.
Няня вздохнула и потупилась…
– Что? Иль тебе ее жаль… А? – вскрикнул Шумский. – Ее жаль! А меня не жаль!
– Нет, родной мой… Не будет мне ее жаль, если она себя противничаньем твоей господской воле себя так поставит… Нет, не то… А боюся я… Боюся.
– Чего?
– Боюся. Я ее знаю. Пашуту страхом взять нельзя. Ведь я ее пяти годков приняла и около меня она как дочь выросла. С ней пужаньем ничего не поделаешь. Ее только добром взять можно. И добром всяк ее совсем возьмет. Вот ты сказываешь, это барышня самая с ней сердечна через меру. Ну, вот Пашута за нее горой и стоит теперь. И супротив тебя пошла. А страхом… Ни-и!.. Ничто на нее эдакое не действует. Хоть ножом ей грозися. Смертью грози! Только голову задерет и скажет: – Семь смертей не бывать, а одной не миновать! Ты знаешь ли, соколик, что когда я ее из воды-то вытащила, почему она в эту воду попала. Топилась! Да, родной, топилась! Пяти-то годков от роду. Ее высек ктой-то середь слободы, при всем народе… Уж и не помню кто… Она от него да прямо в воду. Пяти годов. Так что ж теперь-то от нее ждать.
– Как же быть-то, Дотюшка? – растерянно проговорил Шумский. – Чем же ее взять?
Няня задумалась, не отвечала, а лицо ее стало сумрачно и глаза заблестели ярче. Казалось, она думу думает настолько важную, что душевная тревога тотчас отразилась на лице. Шумский невольно удивился, поглядев пристальнее в лицо своей бывшей мамки.
– Я Пашуту возьму… Токмо ты оставь меня самою, по моему глупому разуму, орудовать. Как мне самой Бог на душу положит. А пужаньем… Где же?..
– Сделай милость! Как знаешь, как хочешь. Только помоги. Ты пойми, что мне смерть чистая приходит. Я извелся. Либо захвораю от боли сердечной и помру, либо просто пулю в башку себе пущу.
– Ох, что ты…
– Верно тебе, Дотюшка, сказываю…
– Полно. Полно… Все будет по-твоему. Есть у меня на Пашуту одно только слово. Страшное слово! Заветное слово! Думала я во веки его не сказывать. Ну, а вот… Будто и приходится. И если я скажу его Пашуте, то она твой слуга верный будет. Все противности бросит…
– Спасибо тебе, дорогая…
Шумский встал, обнял Авдотью, и поцеловал вскользь, почти на воздух, приложив к ее лицу не губы, а свою щеку. Няня покраснела от избытка счастья.
– Дай ты мне только с духом собраться и с мыслями совладать. Не знаю, говорить ли мне… Страшно! Поразмыслить надо мне. Говорить ли!
– Что ты, Бог с тобой, вестимо говорить.
– Ох, нет… Ты в этом не судья… Дай, говорю, с духом собраться. Пойду я вот в здешние святые места, в Укремль. А как я пожалюся святым угодникам и из Укремля приду… тогда я тебе и скажу: говорить ли мне Пашуте мое страшное слово…
– Ну, ладно! – смеясь, отозвался Шумский. – Ступай сейчас в свой вукремль и молися всласть. А там иди к Нейдшильдам. Тебя Копчик проводит. Только видишь ли, Дотюшка, одна беда, в Петербурге нету Кремля и нет никаких угодников. Здесь не полагается. Тут не Москва.
Няня вытаращила глаза.
– Ведь на этом месте, Дотюшка, где Питер стоит, тому сто лет одно болото было. А что в них водится?
– Не пойму я тебя, соколик.
– Да ведь сказывается пословица: было бы болото, а черти будут. Коли Питер эдак-то выстроился, так каких же ты святых угодников тут захотела…
Однако, Авдотья собралась и тотчас же по указанию Васьки отправилась в Невскую Лавру, но его с собой не взяла, говоря, что он ей помешает молиться.
Вернулась няня домой через четыре часа, и Шумский, увидя женщину, невольно изумился, на столько лицо ее было тревожно и выдавало внутреннее волнение. Глаза были заплаканы.
– Что с тобой, Авдотья? – воскликнул он.
– Ничего. Богу молилась.
– Так что ж такая стала… Будто тебя избили. Аль ты Богу-то в страшных грехах каких каялась…
Авдотья вспыхнула, все лицо ее пошло пятнами. а затем тотчас же стало бледнеть, и все сильнее… Наконец, мертво-бледная она зашаталась… Если бы молодой человек не поддержал женщину во-время за локоть и не посадил на стул, она бы по всей вероятности свалилась с ног.
«Верно попал! Сам того не желая, прямо в цель угодил»! – подумал Шумский и прибавил:
– Устала ты, видно. Далеко ходила. Приляг. Отдохни. Иль чаю напейся что ль…
И уйдя к себе в горницу, Шумский думал, ухмыляясь:
– «А видно у моей мамки есть на душе кой-что не простое… Как я ее шарахнул невзначай… И какое же это слово «страшное», как она называет, может она сказать Пашутке. Какая-нибудь тайна между ними двумя. Вернее такая тайна, которой Пашутка еще не знает и теперь, узнавши, изменит свое поведение. Увидим, увидим.»
К удивлению Шуйского, Авдотья через час отказалась наотрез идти к Нейдшильдам и умоляла своего питомца дать ей отсрочку.
– Ну, хоть денька три… Ради своего же счастья обожди, соколик.
– Да отчего? Помилуй!
– Не собралась я еще с духом. Ради Господа не неволь. Хуже будет. Страшное это дело.
Шумский махнул рукой и согласился поневоле…
XII
Между тем, юная баронесса, очевидно, избегала встречи с своим портретистом и не давала сеансов.
Три дня еще напрасно являлся Шумский к Нейдшильдам.
Барон был очень любезен с ним, сажал и задерживал болтовней. Он, по-видимому, был особенно в духе от предстоящего путешествия за границу, в Веймар, на поклон к великому старцу Вольфгангу Гете.
В первый день барон задержал Андреева подробным описанием дома Гете в Веймаре, его рабочего кабинета, крошечной спальни с одним окошком, где едва помещались кровать и одно кресло…
В другой раз барон два часа продержал Шумского, развивая один свой новый проект водоснабжения домов водой.
По проекту барона следовало устраивать не покатые, а плоские крыши с стенками, наподобие резервуаров, а посредине ставить громадную печь. Весь нанесенный зимой снег, долженствовало растапливать и чистая вода по трубочкам текла бы во все комнаты жильцов.
Мысль эту лелеял барон тогда, когда о водопроводах в городах Европы не было и помину. Проект его крыш и печей канул в Лету, а мысль была все-таки не праздная и, в ином более разумном виде, стала через полстолетия действительностью.
Шумский на этот раз слушал барона терпеливо, задумчиво, почти грустно. Он называл красноречивые разглагольствования финляндца – «шарманкой» и обыкновенно избегал их, прерывал.
– Не правда ли удобно? – восклицал барон. – Вместо того, чтобы возить воду в бочках, таскать в ведрах, а снег сгребать с крыш и сваливать во дворах…
– Да-с, – отозвался Шумский угрюмо. – Ну-с, а летом как же? Все-таки бочками возить воду, по-старому.
– Летом?! Да-а?.. – протянул барон. – Летом! C'est une idee![15 - Это идея (фр.).] Я об этом не… Да, летом уж придется по-старому.