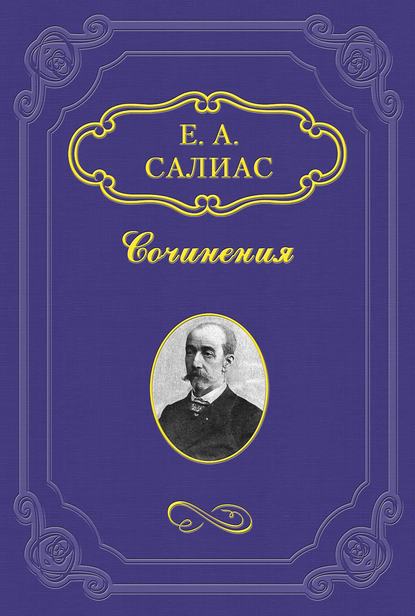По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Квашнин был, как его звали товарищи, «любовных дел мастером», но не таким, какие могли быть в царствование Екатерины Великой и не таким, которые могли явиться впоследствии в виде Печориных.
У Квашнина бывало за раз по три и по четыре «предмета», и все эти предметы чередовались быстро. Все свободное от службы время он посвящал поискам красивых женщин из какой бы то ни было среды, ухаживанью за ними и стараньям достигнуть цели, т. е. победить и вписать в число своих метресс. Не проходило недели, чтобы у Квашнина не появлялось новой знакомки, барыни, мещанки, горничной, русской, немки, шведки. Не проходило недели, чтоб он не разошелся с какой-либо прежней победой…
По вечерам он никого из товарищей к себе не пускал, так как вечера предназначались для его «подруг» и посвящались дамскому обществу… Часто случалось, и это особенно забавляло его, что у него случайно встречались соперницы, сами того не подозревая. Каждая в свою очередь считала себя предметом красивого преображенца, а собеседницу свою просто гостьей или родственницей офицера. Когда обман обнаруживался, случались шумные разговоры, бывали иногда и легкие стычки, в которых примирителю тоже доставалось.
Ближайшим товарищам Квашнина было хорошо известно одно сражение, происшедшее в квартире офицера с год назад. У Квашнина съехались, совершенно случайно, три «предмета» – ревельская белобрысая немочка, цыганка из Московского хора, гостившего в Петербурге, и соседка по квартире, молодая дьяконица… Квашнин сплоховал, гостьи поняли, что они все три не простые гостьи… Немочка осторожно спаслась бегством, но цыганка, шустрая и молодец на все руки, сочла долгом удовлетворить свое оскорбленное самолюбие, а дьяконица храбро встретила врага. И несмотря на красноречивые увещания Квашнина, произошло такое побоище, что пришлось после него ремонтировать квартиру, исправить мебель, стекла в рамах и купить новую чайную посуду…
Но главная беда – огласка – случилась по другой причине.
К довершению всех зол, дьяконица, ушедшая домой в плачевном виде, не сумела, или не смогла, скрыть от мужа этого своего несчастного вида и объяснила мужу все происшедшее с ней совершенно иначе. На другой же день отец дьякон отправился к командиру полка, обвиняя господина поручика Квашнина в том, что он встретил его жену на улице и, будучи не в трезвом виде, исколотил ее без всякого повода.
Разумеется, дело окончилось благополучно, так как Квашнину пришлось покаяться в истинной правде.
Главная характерная черта в похождениях этого Невского Дон-Жуана своего времени заключалась в том, что все его предметы не только ничего ему не стоили деньгами, но все бывали им же обложены податями и налогами.
У офицера не было почти никакого состояния, а денег бывало всегда довольно. Кроме того, почти все, что он имел в квартире, явилось и являлось в виде подарков и подношений «верному другу» от побежденной им прелестницы.
Не говоря уже об массе вышитых подушек, вязаных одеял, шитых туфель, трубок и кисетов, халатов, ермолок, галстуков, – все белье своеобразного Дон-Жуана никогда не бывало куплено, а всегда шилось «дорогими ручками». Счета портного и сапожника, равно магазин офицерских вещей, иногда и булочник, – все уплачивалось теми из жертв неотразимого покорителя сердец, у которых были средства. Наконец, даже квартира Квашнина уплачивалась домохозяйке-вдове сердечной привязанностью, а не деньгами.
В этом отношении Квашнин был лишь подражателем молодежи иной поры, боярской, времен Екатерины Великой. Тогда молоденькие и небогатые офицеры гвардии открыто хвастались существованьем на счет своих покровительниц. Это было в обычае. Теперь нравы изменились и хотя было еще почти то же, но уже несколько скрывалось от посторонних, если не от товарищей.
Разумеется, Квашнин ни разу не был ни влюблен, ни даже просто заинтересован кем-либо. Все это было или шалостью, ради забавы, или необходимостью, ради прямой выгоды.
Но одновременно, и уже с незапамятных времен, Квашнин носил на груди, не снимая и никогда не скрывая ни от кого, иногда надевая даже поверх халата, большой золотой медальон с черным эмальированным крестом.
В одной половине медальона были русые волосы, а в другой – акварельный портрет молодой женщины не очень красивой, но с «томным» взглядом.
Квашнин говорил друзьям серьезным голосом:
– Эта одна была для меня все!
И всегда сам подшучивая над всеми своими предметами, Квашнин насчет этого медальона шуток не любил, становился мрачен, глядел обиженно на неосторожного шутника и даже иногда прекращал за это знакомство.
– Шутите надо всем! Я и сам не прочь пошутить, – говорил он. – А «это» оставьте! Это другое совсем. «Оно» вот где!.. – показывал он на сердце. – Все это тут кровью написано… И теперь еще вспомнить тяжело. А говорить об этом еще тяжелее.
И случалось Квашнин изменялся в лице говоря «об ней». Товарищи смутно знали кой-что, знали, что «она» была полька, варшавянка, что она бежала от мужа, и кончила романически, – утопилась… И ежегодно аккуратно, 4-го мая, Квашнин ходил в церковь, заказывал обедню за упокой Марии, молился горячо и затем весь день проводил дома, никого не видя, кроме самых близких друзей.
Роковое квашнинское 4-е мая было известно не только в Преображенском полку, но и в других полках. Предполагали, конечно, все, что именно в этот день варшавянка Мария покончила свои счеты с жизнью. Сам же Квашнин об этом никогда ни единым словом не обмолвился.
У образов в киоте висел шелковый розовый платочек. И хотя Квашнин тоже никогда не сказал никому, что это за платок, но все товарищи тоже знали, или передавали друг другу общую догадку, что это платок утопленницы, найденный на месте ее насильственной смерти.
Таинственная и трагическая история прошлого Квашнина, медальон и платочек, 4-е мая и заупокойная обедня, сдержанность и обидчивость молодого офицера по отношению к этому грустному воспоминанию, – все это было давно и очень многим известно, но смутно, по догадкам, и в противоречивых подробностях.
Была лишь одна личность на свете, знавшая близко и хорошо всю историю варшавянки Марии. Это была старшая сестра Квашнина, замужняя женщина уже лет сорока и мать многочисленного семейства, которая приезжала из провинции раз в год повидаться и погостить месяц у брата. Она одна знала всю правду. И ей, каждый почти раз, Квашнин говорил, показывая на медальон или на платок:
– Смотри, Аннушка, не проговорись кому из товарищей об этом.
– Будь спокоен. Я же не забыла и не безумная какая, – отвечала сестра добродушно.
– Это, Аннушка, для меня великая тайна ото всех… Ты меня зарежешь без ножа.
– Знаю. Знаю. Будь покоен.
Но тайна, которую знали они двое, брат с сестрой, была особая, не та, о которой догадывались товарищи-офицеры.
Сестра Квашнина знала, что медальон этот куплен братом на ее глазах при распродаже выморочного имущества после некоей одиноко умершей помещицы их губернского города. Чей был этот портрет русой женщины, конечно, никто не знал. Равным образом, откуда был платочек, повешенный теперь в киоте, ни Квашнин, ни сестра, хорошо не помнили. Кажется, это была находка Квашнина при разъезде с какого-то бала, которая вдруг стала драгоценностью.
А тайна все-таки была! И не простая!.. Тайна характера добродушного, правдивого и честного во всяком слове Квашнина. Считая ни во что свои, чуть не ежедневные, победы, относясь совершенно равнодушно или шутливо ко всем живым женщинам, которые в него влюблялись, иногда очень серьезно, он обожал, лелеял, боготворил одну женщину, никогда для него не жившую, призрак, пред которым он привык на словах, а затем и мысленно, преклоняться. Его кумиром была утопившаяся варшавянка Мария, которая была выдумана и никогда на свете не существовала.
Портрет и волосы принадлежали кумиру-призраку, уже более десяти лет живущему в воображенья офицера. Однако, этот призрак становился для него в силу привычки как бы фактом прошлого, и он, казалось, иногда уже почти верил сам в свое измышленье.
Всякий, кто узнал бы правду про Марию, медальон и платочек в киоте – объяснил бы дело просто – глупым хвастовством, часто встречаемым в мужчинах. Но это сужденье было бы полной ошибкой. Надо было искать объясненье гораздо глубже…
Почему же Квашнин не хвастался сотнями побед и подсмеивался над ними. В числе этих женщин были две, жизнь которых была, действительно, отравлена им, как говорится, разбита.
Года два назад, одна еще молодая женщина, покинутая им в то время, когда она надеялась на брак с ним, от нежданного удара вдруг заболела и долго была при смерти. Другая, после больших усилий снова сойтись с Квашниным и полной неудачи, с горя постриглась в монахини около Москвы.
Квашнин все это тщательно скрывал от товарищей и не находил возможным или нужным хвастаться этим, а наоборот, мысленно подшучивал над «новой монашкой своего изделия».
Почему же он хвастал перед товарищами измышленной варшавянкой Марией, грешил, заказывая по ней заупокойные обедни и носил, не снимая ни днем, ни ночью портрет и волосы какой-то неведомой женщины. Кого же он обожал в ней? Женщину отвлеченную! Понятие о женщине?.. «Многое есть на свете, друг Горацио, чего и не снилось мудрецам».
XV
– Никакой пташки не спугнул я? Не помешал? – говорил Шумский, входя в квартиру приятеля.
– Помилуй, тебя жду! – весело отозвался Квашнин, встречая гостя.
– Может, у тебя собирались чай пить твои какие приятельницы! – усмехнулся Шумский.
– Нет. Уж были… На вот!..
И Квашнин, смеясь, нагнулся, приподнял волосы на лбу и показал здоровую шишку.
– Шандалом! – кратко прибавил он.
– Были и били! – сострил Шумский. – Ну, не в первый раз. До свадьбы заживет! А я хотел тебя повидать ради дела. Совета попросить.
– Чтобы ему не последовать, – усмехнулся Квашнин. – Что ж, изволь. Я все-таки добрый совет другу дам.
Шумский уселся на диван; хозяин опустился тоже на кресло и придвинулся ближе. После недолгой паузы, Шумский заговорил просто, тихо, но каким-то неестественно-спокойным голосом. Он стал рассказывать все то, чего еще приятель не знал…
Он объявил о прибытии мамки, о доставленном Шваньским снадобье от знахаря и, наконец, передал почти подробно свое роковое объяснение с возлюбленной.
После всего Шумский кратко объявил про свое, принятое бесповоротно, решенье, и, наконец, смолк и вздохнул.
– Опоить дурманом, пролезть тайком в дом и воровски взять? – проговорил Квашнин, оттягивая слова. – Все та же затея, что и прежде сказывал мне. Так ли друг? Три преступленья вместе, в одном.
Шумский пожал плечами, как бы говоря: «разумеется! понятно!»