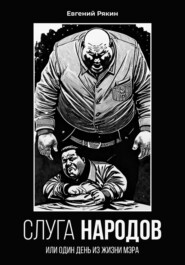По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В памяти зашевелились какие-то неясные воспоминания, он задумчиво потеребил пуговицу и повторил.
– Урок. Обычный урок.
– Впрочем, иногда ответы на три вопроса занимают больше десяти минут, иногда меньше, когда… – продолжал Принцип.
– Извините, – раздражённо прервал его монолог Алекс, намекая, что тому пора бы заткнуться.
– За что? – по-видимому, с распознаванием интонаций у Принципа, действительно, было туго. – За что извинить?
– А можно мне одному побыть, мысли в кучу собрать? – как можно спокойнее ответил ему вопросом на вопрос Алекс.
– Да, да, конечно, а почему вы спрашиваете? – округлил глаза Принцип, но тут же добавил: – А, я понял, я понял, простите.
И щеголеватый молодой человек подчёркнуто вежливо отошёл шагов на десять.
Попытавшись быстро взять себя в руки, Алекс сделал три быстрых глубоких вдоха и мысленно сосредоточился на своих эмоциях. Волновался ли он? Можно сказать, что эта была одна из самых сильных реакций его организма на стрессовую ситуацию за всю жизнь. Он подумал, что это страшнее, чем первый раз в постели с незнакомой девушкой, чем драка один против трёх, чем выбор жизненного пути.
Алекс понимал, что в эти секунды испытывает сильнейший стресс. Он знал, что мозгу сложно спрогнозировать развитие ситуации в условиях полной непредсказуемости, и от этого он чувствует себя очень некомфортно. Ему приходится обрабатывать больше информации и принимать решения чаще. Гипоталамус через цепь маленьких, но очень важных органов, повышает уровень гормона кортизола, который является химической природой стрессового состояния. Нет кортизола – нет стресса, так сказать. Но в то же время, нет стресса – нет и кортизола. Кровь Александра была переполнена этим гормоном, ноги и руки дрожали, во рту пересохло так, что он махом осушил треть бутылки с водой.
Дальше всё было, как в тумане. Он сам не понял, как отозвался на приглашающий жест ведущего, как сделал первые неуверенные шаги и вышел на сцену. И вот он уже стоит на ней и оглядывается по сторонам. Зал был большой, примерно на пять тысяч мест, под завязку заполненный людьми. Мужчины и подростки, старики и женщины, в очках и в проходах, в пиджаках и сидя – все они смотрели на него. А он, как бы беспечно, крутил головой по сторонам. Вдруг его взор упал на тему выступления, что ярко светилась на большом экране: «Современный взгляд на жизнь».
«Урок, один урок», – почему-то пронеслось у него в голове. Какие-то части мозга одновременно возбудились, что-то вспомнилось, пронеслась новая связь, и у него родилась идея. В мгновение ока, если конкретней – за одно моргание глазами, на огромной скорости в мозге пронеслись сотни комбинаций, и в один миг они сошлись в конкретном месте.
Ему стало чуть спокойней, и тут ведущий произнёс:
– Спешу представить нашего следующего гостя: магистра медицины, преподавателя медицинской кафедры Ахейского ликея, Александра Церебауна. Тема его сегодняшнего выступления: «Современный взгляд на жизнь». Александр, прошу вас.
И тому ничего не оставалось делать, кроме как шагнуть вперёд, чуть поклониться и немного неуверенно начать:
– «Современный взгляд на жизнь» – так звучит тема моего выступления, и поэтому…
Алекс неуверенно споткнулся, но все же смог взять себя в руки и продолжить:
– Я расскажу вам, как мы смотрим на эту жизнь, а, если быть точнее, как работает зрительный процесс.
Вроде бы в зале никто не возражал. И он продолжил, чуть храбрее:
– Начнём с того, что зрение занимает примерно девяносто процентов всей сенсорной информации, поступающей в мозг. То есть почти всё, что вы воспринимаете за день – это работа двух, или, кому не повезло – одного глаза.
Засветились улыбки, в зале раздался смешок, а магистр немного успокоился.
– Кстати, а хотите, я вам сейчас покажу часть моего мозга? – он взялся за свои волосы сверху, приподняв их ото лба, сделал вид, будто собирается оторвать верх черепной коробки, а затем улыбнулся, увидев недоверчивые лица многих зрителей. Симпатичная девушка в переднем ряду широко расширила глаза и отрицательно покрутила головой.
– Да нет, всё не так страшно, я вовсе не буду вскрывать себе череп, – усмехнулся он. – Просто сейчас, глядя мне в глаза, вы видите частицу моего мозга, а я, соответственно, вашего. И это не красивая метафора, это действительно так. Дело в том, что глаз – это и есть часть мозга, только вынесенная на периферию. На самом деле, когда плод формируется в теле матери, то из той ткани, что позже станет головным мозгом, появляются две крошечных камеры – глазные пузыри. Именно они со временем станут нашими глазами, а их стволы – частью зрительного тракта, ведь мозгу жизненно важно понимать, что происходит вокруг него, поэтому эволюция и создала такой прямой механизм передачи информации.
Алекс на секунду замолчал и развёл руки в стороны в вопросительной позе.
– И тут возникает вопрос, а как, собственно, мы видим? Ну, то есть, как именно происходит этот процесс? Самый простой вариант ответа звучит так: глаза как бы находятся в режиме съёмки этакого непрерывного видео, которое передаётся по нейронам. Прямая трансляция в мозг, примерно так, все верно? – задал он вопрос залу и, не дождавшись, ответил. – Нет! Ответственно вам заявляю – ничего подобного! Даже близко! А почему? Потому что нервы, дамы и господа – это не провода и по ним не передаётся ничего, скажем так, материального. Никакая частица не сможет попасть по нейронным сетям из пункта А в пункт В. Между проводами, несущими электрический ток, и нейронами, использующими электрический импульс, который называется потенциал действия, огромная разница. Такая же, как между письмом, написанным от руки, и звонком другу. И в той, и в другой ситуации какая-то информация переносится. Но в случае с письмом один физический объект попадает из одной точки в другую, а в другом… поняли разницу, да? Итак, нервные клетки не могут передать изображение.
Алекс почувствовал, что его понимают и это придало ему силы. Он даже улыбнулся той симпатичной девушке в красном платье, сидящей в первом ряду. А она не отвела взгляд.
– Но не только это мешает мозгу осуществлять трансляцию, – продолжил Александр своё объяснение. – Дело в том, что нейроны передают импульсы, которые имеют электрохимический характер, то есть, обратите внимание, не только электрический, но и химический. Между двумя нейронами есть синапс, в который одна нейронная клетка выбрасывает определённый химический состав нейротрансмиттеров, простите за такой сложный термин, а другая воспринимает его. Я не буду сейчас задерживаться на этом процессе, скажу лишь, что через химический коктейль нейромедиаторов достаточно сложно передать изображение. Вернее, это невозможно. Налейте в стакан воды, бросьте туда акварельные краски и попробуйте взболтать этот состав, чтобы он превратился в портрет Джоконды. Конечно, я утрирую и упрощаю, но это для того, чтобы вы поняли – ни о какой видеотрансляции объектов не может быть и речи.
Алекс подошёл к высокому стулу, взял с него бутылку воды, которую раньше туда поставил, и сделал несколько больших глотков, смочив пересохшее горло. Затем продолжил.
– Кроме того, приглядитесь. Некоторые из вас смогут увидеть каждый волосок на моей голове. Это значит, говоря техническими терминами, что мы воспринимаем окружающие нас предметы в очень высоком разрешении. И изображение должно немало весить, если перевести все в мегабайты. Но у нашего зрительного нерва нет мощностей, чтобы передать видео такого качества. Там же не оптоволоконные кабели протянуты, понимаете? Там тонюсенькие нейроны.
И ещё, сколько же мы тогда кушать должны, чтобы такие энергозатраты обеспечить? По центнеру зерна в день? Нет-нет, всё не так. Наш мозг очень бережно расходует энергию. Поэтому, то, как мы видим, совершенно не похоже на процесс видеосъёмки и видеотрансляции. Так как же тогда мы видим, друзья? Интересно узнать?
Публика ответила одобрительным шумом, и Алекс облегчённо выдохнул в глубине души. Дрожь в ногах и руках постепенно стала спадать. Он уже гораздо спокойней оглядел зал и заметил, что девушка в красном платье необыкновенно красива. Причём, она снова не отвела свой взгляд.
– Для начала давайте повторим устройство глаза. Повторение – мать учения, как говорится. Итак, глаз представляет собой камеру, заполненную жидкостью. Свет, попадая через хрусталик, проходит через эту внутриглазную жидкость и падает на сетчатку. При этом изображение переворачивается снизу вверх и слева направо. Сетчатка состоит из колбочек – рецепторов, отвечающих за восприятие цвета и остроту зрения, и палочек, благодаря которым мы можем видеть в темноте. У них огромная светочувствительность, им хватает нескольких фотонов, чтобы возбудиться. В принципе, похоже на строение фотоаппарата, верно?
Несколько человек в зале утвердительно покивали.
– А вот и нет! Дело в том, что, условно говоря, в фотоаппарате свет проходит через объектив и попадает на матрицу, а оттуда по проводам уже идёт в процессор. Глаз же эволюционен, то есть, устроен менее разумно, чем творение человека. Дело в том, что нейроны, которые передают информацию в мозг, находятся перед сетчаткой, а не за ней. Понимаете? То есть свет, чтобы попасть на палочки и колбочки, сначала проходит через несколько плотных слоёв нейронов. Если вернуться к аналогии с фотоаппаратом, то свету пришлось бы пробиваться через толщу проводов, прежде чем добраться до матрицы. Понятно, что получаемое изображение было бы не самого лучшего качества. В итоге мы приходим к тому, что глаз ужасно несовершенен. Если бы его кто-то проектировал, то за такую конструкцию он получил бы твёрдую двойку. Всё дело в том, что глаз, как и всё в этом мире, эволюционирует в условиях полнейшего хаоса, приспосабливаясь к огромному числу внешних факторов, но об эволюции как-нибудь в другой раз.
Алекс покашлял и развёл руками.
– А сейчас самое ужасное: глаз не видит. Да, он воспринимает свет и цвет, но это больше похоже на двухмерную нечёткую мозаику, чем на ту картинку, которую мы с вами наблюдаем. Он, конечно, участвует в создании образа, но на очень примитивном уровне. С работой коры головного мозга эти нейроны даже сравнивать нельзя. Глаза лишь извлекают информацию, а вот выстраивает всё то, что вы видите – сам мозг, вернее, его зрительная кора. Именно поэтому можно ослепнуть от удара по затылку, где, собственно говоря, и располагается зрительные отделы мозга. Сейчас я попью, и продолжу дальше.
Алекс опять подошёл к высокому стулу за водой. Несмотря на то, что он волновался уже меньше, пот все равно бежал градом, во рту пересыхало быстрее, чем он восполнял запасы влаги в организме. Девушка в красном поглядывала на него, немного прищурив глаза.
– Чуть не забыл сказать, – продолжил Александр. – Всё же есть одно место на сетчатке, над которым не нависают плотные слои нервных и ганглиозных клеток. Прямо напротив зрачка, в центре, есть небольшое углубление, очень плотно набитое колбочками. В одном квадратном миллиметре центральной ямки находится примерно сто двадцать тысяч колбочек. Для сравнения: за пределами ямки число колбочек не превышает шести-семи тысяч на квадратный миллиметр, причём каждая конкретная колбочка соединена со своим одним единственным нервным волокном. И хотя сама ямка занимает менее миллиметра площади сетчатки, она передаёт в мозг примерно пятьдесят процентов всей визуальной информации. Совершенно не похоже на фотоаппарат, согласитесь.
К чему это приводит? Это значит, что прямо перед собой вы видите со стопроцентной остротой. Проведите эксперимент: вытяните вперёд руку прямо перед собой, и поднимете два пальца вверх – их ногти вы будете видеть отлично. А вот всё вокруг, увы, уже более размыто. И ещё, чем дальше от центра, тем ниже качество изображения, и тем меньше цветность. Если вы продолжите смотреть прямо, а руку с пальцами отведёте в сторону, на периферию зрения, то увидите лишь смутные очертания: формы, контуры, движения. Хотя мы-то с вами этого не воспринимаем, считая, что абсолютно всё видим резко и отчётливо. Но нет – глаза лишь разбивают картинку на фрагменты, на детали, и только мозг складывает её в единое целое. И делает он это очень нестандартно. Секундочку.
Алекс снова подошёл к бутылке и приложился к ней, сделав пару глубоких глотков. Девушка в красном платье положила ногу на ногу и покачала прелестной туфелькой.
– Да, и ещё, – решил оживить своё выступление Александр. – Представьте, что поздно вечером вы возвращаетесь домой через парк, и вдруг справа от вас раздаётся какое-то шевеление в кустах. Периферийное зрение тут же отреагирует – в течение сотых долей секунды, если говорить о скорости. Ядро глазодвигательного нерва моментально получит сигнал, и глаз тут же повернётся, чтобы объект попал в зону наиболее острого зрения – как мы с вами уже знаем, это центр зрачка. Это рефлекторный процесс, не требующий осознанного осмысления. После этого вы моментально начнёте буквально «ощупывать» источник движения.
А теперь очень важная информация! Прежде, чем попасть в зрительные отделы мозга, зрительный нерв проходит через таламус. Это такой сенсорный фильтр, который пропускает в кору наиболее важные сигналы. Рядом с ним, кстати, находится много интересных отделов мозга. Например, гиппокамп, который отвечает за долговременную память, четырёххолмие среднего мозга, ответственное, собственно, за зрение, миндалина, которая формирует эмоциональную память, и гипоталамус, влияющий на эндокринную систему с её гормонами. Плюс органы обоняния. Всё это вместе создаёт этакий центр первичного восприятия и узнавания.
Поэтому, если вы увидите в кустах нечто, чьи детали (а помните, что вы видите ещё только детали) покажутся вашему эмоциональному мозгу опасными, то вы побежите. Например, он увидит быстрое перемещение какого-то предмета по направлению к вам: долговременная и эмоциональная память дадут мгновенную оценку, передадут её гипоталамусу, а тот даст команду на выброс адреналина и кортизола. Информация ещё только обрабатывается корой, а вы уже улепётываете.
Алекс показал быстрое движение, зал улыбнулся и магистр, улыбнувшись ему в ответ, продолжил своё объяснение:
– Таламус находится прямо в центре зрительного нерва, на полпути к коре мозга. Поэтому и срабатывает он раньше. И миндалина тоже. Это значит, что любая информация, попадающая в мозг, сначала приобретает эмоциональный окрас. Через таламус проходит и слух, и зрение, и обоняние, и тактильные ощущения. То есть вначале мы чувствуем всё, с чем соприкасается наша сенсорная система, а уж потом обрабатываем разумом. Это значит, что эмоциональное мышление всегда срабатывает раньше, чем мышление рациональное. И в этом есть плюс: мы можем отреагировать мгновенно и спастись. Но есть и минус: сенсорные ощущения могут нас обмануть, ведь они не идеальны. Почему? Потому что мы видим только, скажем так, черновик. Именно поэтому мы можем шарахнуться в тёмном парке от бродячей кошки. Секундочку.
Магистр снова попил воды.
– И раз уж мы затронули чувства и ощущения, то давайте поговорим вот о чём. Представьте, что вы надеваете шерстяную кофту, которая сильно колется. Сначала вы испытываете дискомфорт, но уже через несколько минут покалывания перестают чувствоваться, хотя колючая кофта никуда не исчезла. Бывает такое, да?
Или вы сидите на скучной лекции. Преподаватель что-то нудно медленно читает, и через некоторое время вы уже его не слышите, хотя он продолжает говорить. Знакомо?
Другая ситуация. В аудитории жарко, а вы в тёплой кофте и вскоре начинает чувствоваться запах пота. Сначала вы его ощущаете, но через некоторое время запах исчезает. Хотя, конечно, он никуда не может деться, и взгляд соседки по парте красноречиво об этом говорит.
Это привыкание, или, говоря научными терминами, фильтрация сенсорной информации, за которую, собственно, и отвечает таламус. Процесс этот достаточно интересный, о нем я подробно рассказываю на своих лекциях в ликее, но сейчас речь не о нём.