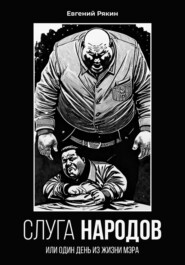По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алекс ответил неуверенным полуутвердительным кивком и промямлил
– Вроде бы… сказали, что через пятнадцать минут, но я….
– Ну что ж, добро пожаловать в первый акт! – прервал Александра собеседник. – Он короткий: всего четыре выступающих. Эта женщина уже третья, значит, скоро ваша очередь. Меня зовут Принцепс, я буду во втором акте рассказывать о случайностях, которые приводят к войнам. А вы о чём?
Он говорил чрезвычайно громко, но вообще без нот эмоций, какими-то тусклыми словами и практически без мимики. «Наверное, инсульт был в лобных долях правого полушария, или нарушена взаимосвязь между эмоциональной и речевой зоной», – профессионально подметил Александр, но вслух сказал совсем другое:
– Ясно. А меня зовут Александр Церебраун, и я пока сам не знаю, о чём буду говорить.
Щёголь фальшиво натянуто улыбнулся, явно не веря такому признанию. Воцарилось молчание. Судорожно обдумывая, чем заполнить возникшую пустоту, Александр произнёс:
– У вас очень необычное имя. Принцепс? Так вы сказали?
– Да, Принцепс. Принцепс Гаврилов, – заговорил усатый, явно польщённый вниманием к своей персоне и подал руку. – При рождении у меня было другое имя, конечно. Просто я был первым ребёнком в семье, поэтому мой отец называл меня «принципом», а мать – «принцем». Это были прозвища, но они мне очень нравились, поэтому, когда я вырос, то решил официально сменить своё имя. Тогда я пошёл в муниципалитет и подал заявление. Сначала меня пытались отговорить, но я знал, что это официальная процедура, поэтому я её отклонил. Я сказал специалисту, что мне уже двадцать один год, я прошёл обследование, стал совершеннолетним и поэтому хочу носить имя «Принцип», но он…
Слушать Принцепса было решительно невозможно. В отсутствии интонации его бубнёж наводил скуку с первых же секунд, и Александр пожалел будущих слушателей этого щеголеватого Принципа. Речь была настолько ровной, что в ней не за что было даже зацепиться. То, что мама звала его «принцем» звучало так же серо, как и его рассказ о бюрократических проволочках. Алекс попытался было его прервать, но тот решительно отказывался закругляться, выдавая всё новые и новые занудные подробности. Пришлось Александру пойти в контратаку и поинтересоваться, а не путает ли иногда уважаемый Принцип мужскую и женскую речь?
В ответ щёголь недоумённо нахмурил брови, откашлялся, пожевал губами и отошёл к небольшому столику у входа, где стояли бутылочки с водой. Взяв одну из них, Принцепс принялся пить, косясь на Алекса, а тот – напряжённо думать, что же делать в сложившейся ситуации. В голову ничего путного не приходило, кроме желания слинять отсюда как можно скорее. Останавливали две вещи: первая – это то, что организаторы знали его имя и могли разнести по достаточно узкому кругу преподавателей некрасивую историю, как он, Александр Церебраун, магистр нейрологии Ахейского ликея, позорно сбежал с конференции. Конечно, он бы смог всё объяснить, но осадочек бы остался, как говорится. Вторая – этот, гамота его за ногу, Принцип, куда он уйдёт, когда за его действиями безотрывно наблюдают?
– Так, надо собраться, – подбодрил себя Александр. Сначала он попытался вспомнить хоть что-то – хотя бы о тему выступления. Но ничего не выходило. Тогда Алекс попытался абстрагироваться, чтобы найти внезапное решение в посторонних мыслях, но вместо этого в голову лезла, перетекая из одного в другое, какая-то чушь о рыбалке, Наташке, работе и нейрофизиологии…
*
Наш мозг не хочет лишний раз напрягаться, но это не потому, что он ленив, просто каждое усилие стоит ему энергетических трат. В обычном состоянии головной мозг потребляет двадцать процентов энергии, получаемой им из пищи, а при повышении активности энергопотребление возрастает ещё сильнее. Что-что, а мозг в любой ситуации будет получать максимум глюкозы, даже если от этого будут страдать все остальные части тела. В нашей голове на протяжении всей жизни не перестают трудиться десятки отделов, отвечающих за дыхание и кровообращение, зрение и слух, метаболизм и ориентацию в пространстве. Чтобы получить необходимые для этого калории, человеку, да и любому другому существу на планете, необходимо что-то есть, а для этого нужно выйти на охоту или дойти до магазина, но на это тоже тратится энергия. Поэтому мозгу выгоднее меньше напрягаться, чтобы использовать свои ресурсы как можно экономней.
По этой причине мы так любим понятные алгоритмы: если нажал на жёлтую кнопку и получил банан, а от прикосновения к синей ударило током, то, значит, на жёлтую нужно нажимать чаще, а синюю вообще не трогать. Это нужно всего лишь запомнить, так проще и экономней, чем обдумывать каждый раз по-новому, ведь если какой-либо результат имеет значение для организма, то на создание связей между сотнями и тысячами нейронов, составляющих знание об этом результате, затрачивается энергия. Когда информация долгое время остаётся невостребованной, то мозг перестаёт тратить на сохранение связей драгоценные калории. И мы забываем. Это принцип работы памяти.
Итак, на поддержание связей нужна энергия, поэтому только важная для нас информация остаётся в долговременной памяти, а всё ненужное вскоре навсегда стирается из кратковременной.
Каждый раз, сталкиваясь с незнакомой ситуацией, мы затрачиваем значительное количество калорий на её продумывание и прогнозирование. То есть, принимая решение, серьёзно напрягаем мозг, которому не очень-то это и нравится. Однако он не виноват – это просто экономия ресурсов. Именно поэтому мы так не любим неожиданные обстоятельства, когда приходится что-то внезапно решать, просто потому, что в эти минуты энергозатраты вырастают на треть, как минимум. Самое бестолковое расходование драгоценной энергии с точки зрения мозга.
Ирония судьбы заключается в том, что мозг развивается только тогда, когда напрягается. В противном случае он начинает понемногу деградировать, что особенно это заметно у некоторых пожилых людей, ибо неиспользуемые связи разрушаются. Кстати, старческая деменция берет своё начало в среднем возрасте, а Александр Церебраун, между тем, в нём и находился.
Уже много лет подряд он работал в Ахейском ликее преподавателем нейро-дисциплин. Никакого движения вперёд, никаких открытий, о которых он мечтал в юности. Каждый день похож на предыдущий. Съедает рутина: день за днём он читает теорию, изредка практикует, после работы всё чаще выпивает, по выходным ездит с Наташкой из коллектива к ней на дачу, жарит, чаще её, но, бывает, и шашлыки.
– Эх, сейчас бы к Натахе, в баньке попариться, мяса поесть, – подумал он. – Вечером на речку сходить, пожечь костёр, покупаться голышом, а утром, ещё в туман, сбегать порыбачить одному, в тишину. Вот туда бы, а не это вот всё!
Снова очутившись в реальности, Алекс задумчиво сжал губы: да что тут размышлять? Валить ему надо к чёртовой бабушке из этой богадельни, никаких документов он не подписывал, никому, вроде бы, ничего не должен?! Да и жрать захотелось, просто сил нет никаких. Может, типа, в столовую уйти и опоздать потом?
– Скоро ваш выход, – внезапно громко прервал его размышления вновь подошедший Принцип и протянул маленькую бутылку. – Вот вода, вдруг в горле пересохнет. Вы готовы?
– Всегда готов! – повторил он любимую фразу отца, попытавшись пошутить.
– Хорошо, хорошо, – не понял шутку молодой человек и снова замолчал.
Вернуться к своим отступническим размышлениям у Алекса не получилось, поэтому он начал вслушиваться в то, о чём говорила женщина, которая сейчас выступала на сцене. Он стоял сбоку, за кулисами и хорошо видел её резкий профиль. На вид ей было лет сорок пять-пятьдесят. Она очень оживлённо жестикулировала и звонким голосом рассказывала вроде бы интересные вещи, по крайней мере, весь зал не сводил с неё глаз.
– И вот, мы решили смыть этот позор интересным экспериментом, – вдохновенно вещала она. – Мы приехали в лагерь, где содержали самых яростных националистов. Их выстроили на плацу перед нами – угрюмых, в серых тюремных одеждах. Страшноватое впечатление, знаете ли. Поставили большой монитор, и повернули его к ним, чтобы каждый мог видеть свой результат. Мы брали у них пробу слюны, тут же помещали её в секвенатор Щелудкова, и уже через несколько секунд он давал полную генетическую карту человека. Конечно, нас интересовали гаплогруппы, точнее сказать, принадлежность каждого к национальности. И вот оказалось, что самый главный у них – вы не поверите – наполовину семит. А он думал, что чистокровный скандинав. И знаете, это повлияло на них. Произошла переоценка ценностей. Хоть, к сожалению, и не у всех. И не так, как нам этого хотелось.
Она чуть сбилась, но продолжила.
– Дальше мы стали приезжать в разные полисы Союза и массово брать у их жителей анализ ДНК; благо, что сейчас это быстро и дёшево. Кстати, грант на исследования мы получили благодаря дожу Аквилеи сеньору Микеле Морозини, он здесь, спасибо ему огромное!
Женщина повернулась куда-то в зал и захлопала, а в зале громко подхватили. Выступающая дождалась, когда шум стихнет, и вновь продолжила:
– Мы брали пробы и у вас в Аквилее, и в Ганзе, и в Ахее и в других полисах. Но самое главное, что за год мы проехали всё северное Фракийское побережье, и везде проводили исследования. А через некоторое время выкатили тот самый портал «ДНК-регистратор», который многие из вас знают. Для тех, кто, возможно, не слышал об этом, поясню особо. Система работает очень просто: сначала сдаётся проба слюны, которая обрабатывается, и данные заносятся в общую базу, через некоторое время система выводит результат расшифровки ДНК и показывает ближайших родственников, Те, кто использовал это приложение, бывало, полностью меняли свою жизнь. Эти люди вдруг осознавали, что они не англичане, к примеру, а наполовину галлы, на четверть скандинавы и на оставшуюся четверть имели общую ДНК с жителями Нижней Саксонии. И вот тогда у человека происходила переоценка, он выходил на улицу и понимал, что нет никаких национальностей, есть всеобщее, всепланетное братство.
Конечно, нашу систему тут же стали критиковать, но крупнейшие научные сообщества неоднократно проверяли алгоритмы и выносили вердикт: всё верно. И вскоре скептики затихли. Да, и как вы помните, именно благодаря «ДНК-регистратору» тогда снизилась напряжённость в возрождавшихся союзных полисах. Кто, кстати, проходил ДНК-перепись? О! – обрадовалась женщина множеству поднятых рук. – Я очень рада! Вы тоже ощутили в себе корни десятков народов? – спросила она громче. – Вам повезло, друзья, ведь вы испытали это счастье знать, что за вашими спинами сотни и сотни поколений; понимать, что вы находитесь прямо на переднем крае восхитительного процесса эволюции, объединяющего народы, виды и царства…
Она вскинула вверх обе руки, наклонила голову и триумфально закончила выступление. Раздался шквал аплодисментов. Слово сразу же взял конферансье в костюме с бабочкой:
– Спасибо большое госпоже Рози Франк за столь интересное и поучительное выступление, за её тяжёлую работу по снижению межнациональных конфликтов, за вклад в развитие науки о ДНК! Спасибо вам, Рози, за это! А теперь, дамы и господа, прошу. Три традиционных вопроса из зала. О, да у вас будет нелёгкий выбор, – усмехнулся он.
Александр заметил, как только в той части зала, которую он мог видеть со своего места, взметнулось с десяток рук.
– Вот тот молодой человек был первым, – показала Рози куда-то в зал. – Давайте ваш вопрос.
Через несколько секунд в зале раздался сухой мужской голос.
– Здравствуйте, госпожа Франк. У меня, как бы, короткий вопрос. Вот вы рассказывали, что проводили эксперимент в колонии, где держат, как бы сказать, националистов. Всё замечательно, конечно.
Он неестественно покашлял.
– Но почему-то вы не упомянули, что после вашего исследования, там, как бы сказать, произошёл бунт. Заключённые быстро поделились по, как вы говорите, гаплогруппам и стали друг друга убивать. Произошёл бунт, настоящий бунт. А главарю, о котором вы упомянули, насколько мне известно, отрезали голову струной. Почему-то об этом вы решили, как бы, не рассказывать.
А вопрос у меня такой – не кажется ли вам, что вы, как бы сказать, лично несёте ответственность за смерть тех десятков людей? Вы сейчас стоите, улыбаетесь, а моего старшего брата зарезали в том месте, в той колонии. И он не был заключённым, он был охранником, который, как бы, просто оказался не в то время и не в том месте. Если бы не вы, то он был бы, как бы сказать, жив. А сейчас его нет, и больше никогда не будет.
Голос говорящего задрожал:
– Скажите мне, чувствуете ли вы себя виноватой в их гибели? Не стыдно ли вам улыбаться, когда ваши руки в крови?
Он закончил. В воздухе повисла звенящая тишина. Было видно, как Рози молча смотрела куда-то в зал. Лицо конферансье выражало удивление и оторопь. Он в упор, поджав губы, поглядел на женщину – та стояла не шелохнувшись, крепко сжав зубы. Молчание затягивалось. Секунды текли медленно, очень медленно. Где-то в зале скрипнуло кресло. Александр чувствовал, как и его сердце бешено заколотилось. «А как тогда приходится ей, под тяжестью тысяч взглядов?», – подумалось ему.
И тут, вместо ответа на вопрос, Рози резко повернулась и твёрдой походкой, чеканя шаг, в пугающей тишине устремилась за кулисы. Пройдя мимо Александра и его неэмоционального спутника, она негромко произнесла: «Не в это время и не в этом месте» – и, глядя куда-то перед собой, направилась к выходу.
На сцене заиграла музыка, конферансье что-то успокаивающе заговорил в микрофон, по всей видимости, успокаивая публику и подготавливая её к следующему докладчику.
– Что же, дамы и господа. Предлагаю почтить память павших и продолжать дальше. А нашим следующим гостем будет Александр Церебраун, с животрепещущей темой «Современный взгляд на жизнь», – говорил он, размахивая левой рукой. – Всего через пару минут, оставайтесь с нами.
– Современный взгляд на жизнь! – взорвалось у Александра в голове. – Что мне говорить то им?! Где эта баба?! Куда она, малака, запропастилась? Наверно, надо валить отсюда, пока…
– Приготовьтесь, через пару минут ваше выступление, – громким бесцветным голосом опять прервал его мысли молодой человек. – Сейчас музыканты проиграют, и ваш выход, последний в первом акте. Через сорок минут всё закончится, потом вопросы, часовой антракт и затем второй акт.
– Сколько, говорите, длится выступление? – переспросил его Александр.
– Тридцать минут выступление и десять мнут ответы на вопросы обычно, – безэмоционально произнёс Принцип. – Итого сорок. А вы разве этого не знали?
– Знал, знал, конечно, – потёр виски Алекс, – это я так разгружаюсь перед выступлением, пытаюсь шутить. То есть, это примерно как урок младшем в ликее?