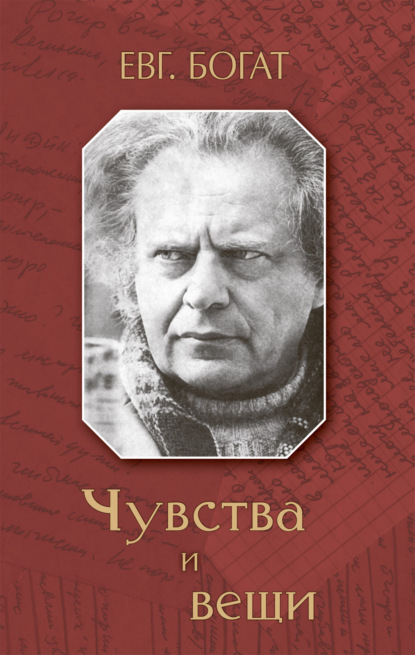По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чувства и вещи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но если он выпиливает, вытачивает, вырезает, выколачивая большие деньги дочери на такси, то должен хотя бы налоги уплачивать за то, что наработал! И вот к Шеляткину явился фининспектор.
Шеляткин читал семнадцатый том.
«Какую светлую, прекрасную жизнь мы могли бы вести… нет желания роскоши… симпатический круг людей, умственная, артистическая деятельность…»
Фининспектор оторвал его. Будучи опытным, искушенным в разных житейских историях и хитросплетениях человеком, он четко понял ситуацию и, не найдя источников – ни доходов, ни шумов, – извинился, ушел.
Затем явились работники санэпидстанции: ведь это их дело – бороться за тишину.
Шеляткин читал девятнадцатый том.
«Жестоки легко побеждающие… узкие натуры, эгоисты и абстрактно добродетельные люди».
Был открыт двадцатый том.
В середине его Шеляткин получил новую повестку – вызов на новое разбирательство его дела в товарищеском суде. Опять вызывали машину ночью. Опять он умирал и воскресал, и опять непрекращаемо висела в воздухе странная нота, и опять не верили, что человек умирает.
Как я убедился потом, Дубровина была, в сущности, незлым человеком. Была она именно абстрактно добродетельным человеком и легко в жизни побеждала, раньше, в школе, в конфликтах с учителями, потом – на ниве общественности. Ее натура не мирилась с тем, что зло в образе Шеляткина уходит от возмездия, ведь она десятилетия учила детей тому, что зло терпит поражение, а добродетель торжествует даже тогда, когда погибают герои. А тут и герой жив, и зло живо.
Накануне второго товарищеского суда был поставлен Эксперимент. Поскольку наступили уже теплые дни и Шеляткин все чаще выходил на балкон, откуда мог увидеть Экспериментаторов, те действовали осмотрительно и четко. Члены домкома быстрыми короткими перебежками, распластавшись у стены дома (чтобы с балкона не было видно!), достигли шеляткинского подъезда. Несмотря на почтенный возраст и обширные, как старинные английские романы, анамнезы в историях болезней, эту часть Эксперимента они выполнили с восхитительной четкостью. Дальше пошло даже лучше. Большая часть членов домкома засела у Коршуновых, а двое заняли наблюдательные посты поблизости жилища Шеляткина – выше его и ниже. Павлюченков, который руководил Экспериментом, внес в его выполнение увлекательно-детективные моменты разведывательно-боевой операции.
Затем была выключена электроэнергия во всем доме, и экспериментаторы, сидевшие у Коршуновых, удостоверились, что странная, въедливая нота оборвалась. Но успех Эксперимента был не в этом, его историческая роль была в том, что сам Шеляткин вышел, – вот она, улика долгожданная, вот! – вышел на лестницу с саморазоблачающим вопросом: «Что у нас, товарищи, с электричеством творится?» Зачем пенсионеру днем электроэнергия? Если не для тайных, кощунственных дел.
Второе посвященное Шеляткину заседание товарищеского суда вел Павлюченков. Дубровина выступала как оратор. Даже в бегло-протокольной записи этого выступления угадывалась потом торжественная медь. Казалось, это не русский язык – латынь или речь в трибунале времен Великой французской революции.
Разбирали опять в отсутствие Шеляткина – он лежал после мощных уколов: не выдержал Эксперимента. Дубровина говорила о великом успехе Эксперимента, потом, оторвавшись от эмпирической действительности, воспарила над ней и говорила о Добродетели и Жертве. Добродетелью была тишина. И за нее следовало бороться. Жертвой был Шеляткин. Она называла его жертвой не потому, что он не виноват – ведь разбирательство его дела становилось бы совершенно абсурдным, – она называла его жертвой потому, что он не раскаялся, не повинился, обуянный гордостью, замкнулся в себе. Он жертва собственного самолюбия и, видимо, алчности.
Товарищеский суд решил: «Наложить штраф на квартиросъемщика Шеляткина в сумме 10 рублей; разъяснить гр-кам Коршуновым, что при непрекращении шума они имеют основание возбудить в суде дело о выселении в порядке частного обвинения…»
Почему не был оштрафован Шеляткин, я объясню потом, а сейчас сообщу, что райсовет через месяц отменил это решение, а заодно и первое как абсолютно бездоказательные.
Это был хороший для Шеляткина день. Он раскрыл утром двадцать первый том. Днем ему стало лучше, он вышел погулять, и опять задержал его у подъезда Павлюченков:
– Постой! Ты – человек, не шуми!
– Да не шумлю я, – улыбнулся Шеляткин, – сижу и читаю.
– Откуда же эти въедливые сигналы? – наступал Павлюченков.
– А может внеземная цивилизация подает голос, – пошутил Шеляткин.
И самому понравилось, что пошутил непринужденно, весело, легко, как и советовал ему доктор: как можно чаще шутить, улыбаться. – Подает голос, – повторил еще веселее Шеляткин, – сообщает что-то.
– Что сообщает? – совсем нахмурился Павлюченков. – Что она может сообщить?..
Юмор, как и алкоголь, он не воспринимал.
– Ну, – чуть растерялся Шеляткин от заостренной конкретности вопроса, – что-то интересное, не понятное нам пока…
– А почему тебе сообщает, а не общественности? – обиделся Павлюченков. И опять пошел к Дубровиной.
– Шутит! – печально покачала она седой величавой головой.
Наутро Коршуновы в порядке частного обвинения подали иск о выселении. Об этом доброхоты из дома-телескопа сообщили немедленно Шеляткину, а недели через две он и повестку получил из суда, на этот раз – шутка ли?! – народного.
Он не пошел – уже из дома не выходил. Суд особым постановлением – Постановлением – отложил разбирательство до выздоровления Шеляткина.
А он не выздоравливал.
И тогда Коршуновы, мать и дочь, несмотря на то, что в суде лежал медицинский документ, удостоверявший, что Шеляткин болен, потребовали, чтобы его, Шеляткина, осмотрела на дому, раз не желает выходить на улицу, авторитетная комиссия. Мало ли что может понаписать один доктор! Надо устроить консилиум. И устроили.
В оправдание Коршуновых хочу заметить, что у них были основания для известного беспокойства и недоверия. Разные официальные лица, имевшие дело с Шеляткиным, начинали испытывать к нему сострадание, даже симпатию. Даже фининспекторы, чья верность форме и букве общеизвестна, после второго товарищеского суда опять побывали у Шеляткина и торжественно подтвердили, что он безгрешен. Даже – поверите ли?! – судебный исполнитель, а точнее – исполнительница, милая молодая женщина, явилась к Шеляткину для получения десяти рублей – помните: штраф! – увидела его, потолковала о жизни и… не выполнила должностного поручения, ушла без червонца, хотя Шеляткин тут же безропотно положил его перед ней. Можно ли верить после этого доктору, который пишет в суд, что Шеляткин тяжело болен?
Что, если он их всех покупает? Резьбой!
И Шеляткина обследовала в домашних условиях высококомпетентная медицинская комиссия – доскональнейшим образом, будто болезнь его была уникальная и ей надлежало войти в историю науки. Выслушивали все пульсы, выслушивали сердце и легкие, измеряли давления, осматривали, ощупывали, углублялись в документы: ведь им самим надо было написать документ, имеющий юридическую силу. Если образно выразить то, что они написали, то участие Шеляткина в судебном разбирательстве – любом! – не менее абсурдно, чем участие в марафонском беге человека, пораженного полиомиелитом. Обширный инфаркт миокарда «с исходом в аневризму» привел к сердечно-сосудистой недостаточности, при которой даже малейшие волнения опасны.
И дело в суде разбирали без Шеляткина – в роли ответчика выступали его жена и дочь. Дубровина, Павлюченков, Пустовойт и Пассек участвовали в судебном разбирательстве на стороне Коршуновых.
Хочу обрадовать читателя: дело окончилось победой Шеляткина, победой ослепительной, ошеломляющей. Народный суд не только отклонил иск как бездоказательный, но и высмеял его в решении (и за Эксперимент, и за анекдотическую ссылку Коршуновых на собственное «чутье», позволяющее им будто бы точно определять, откуда исходит загадочный шум). Но мало этого, мало – народный суд посулил, что если и дальше будет омрачаться покой тяжело больного человека, то последуют частные определения, осуждающие поведение и Коршуновых, и товарищеского суда.
Если бы было в обычае публиковать судебные очерки с иллюстрациями, то я бы в этом месте поместил репродукцию известной античной фигуры – богини Победы Ники.
Дошла она до нас, конечно, с большими потерями: без рук и без головы – и все же заключает в себе великолепие полета. Она летит навстречу бессмертию. Полетели домой к Шеляткину и родные ему люди – жена и дочь, рассказали о победе. Он узнал о ней.
Ночью он умер.
Герцен был раскрыт на двадцать втором томе.
Да, я чуть было не забыл: накануне суда разыгралось нечто фантасмагорическое. Днем, когда Шеляткин был один, явились Трое. Тот, что был посередине, статный, улыбающийся, излучающий жизнелюбие, как лазер лучи, назвал себя Оперативником из Большого Дома. Шеляткин не удивился. Он уже устал удивляться – кто только не побывал у него за последние месяцы! – он утратил дар удивления, не утратив дара страдания, что, наверное, для сердца особенно нехорошо.
Остальных двух широкоплечий назвал, улыбаясь, Понятыми. Шеляткин и это выслушал равнодушно, он сидел у окна, дышал, ждал, что будет дальше. А дальше последовало нечто настолько странное, что даже у Шеляткина шевельнулось в душе что-то похожее на удивление. Статный, жизнелюбивый вдруг ловко, будто показывая акробатический этюд, упал лицом на ковер, артистически точно амортизируя падение сильными руками; чихнул от пыли, по-пластунски пополз к тахте, нырнул под нее, как ящерица, замер, чуть ерзая от нетерпения – искал что-то – по ковру ногами. Ничего не обнаружив, вынырнул, изящно поднялся, был опечален, но жизнелюбие быстро к нему вернулось.
– Суши сухари, папаша, – улыбнулся он Шеляткину, – покупай плащ-палатку или лучше спальные мешки, выселять будем после суда.
И Тройка удалилась…
Как выяснилось, это был никакой не оперативник, а дальний родственник Коршуновых, мастер по самбо с подающими большие надежды учениками.
– А что?! – оправдывалась потом Коршунова. – У него (то есть у Шеляткина) дальний родственник (имелась в виду мифическая фигура, вытачивающая будто бы на Урале высокохудожественные и дорогие вещи из дерева), и у нас дальний родственник. Чем мы хуже?!
Мне захотелось увидеть этих людей – нет, нет, не Коршуновых: их поведение не заключало никакой загадки. Действительно, нелегко жить, когда над тобой и денно, и даже тем более нощно кто-то выпиливает что-то, вырезает. Я понимал Коршуновых и, не симпатизируя ничуть им, даже в чем-то как жертвам шума сочувствовал, хоть и было мне ясно: не менее шума раздражает их мысль о том, что семья наверху роскошествует на не облагаемые налогом доходы. Повторяю: поведение Коршуновых не заключало загадки.
А хотелось увидеть мне товарищеский суд, который, по существу, вынес человеку, ни в чем не повинному, исключительную меру наказания.
И я поехал в тот город, пошел в тот микрорайон.
Анисья Ивановна Дубровина сидела в пустынном – был послеобеденный безлюдный час – салоне «Союзпечати», осеннее солнце отражалось в аквариумах с золотисто-красными экзотическими рыбками. Она сидела – с хорошо посаженной головой, величаво-седая – в окружении стендов с новыми номерами журналов, что-то читала. Я подошел, поздоровался, назвал себя, объяснил цель командировки.