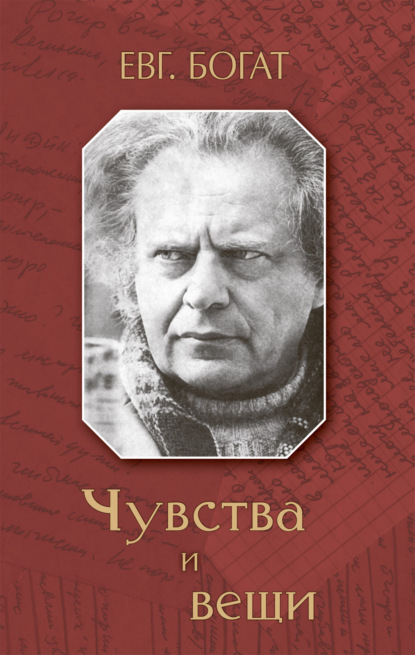По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чувства и вещи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все же неудачники подлинные есть. Это те, для кого опыт какого-либо несвершения стал последним опытом в жизни. Это те, кто полностью сосредоточился на мысли об этом последнем опыте, кто попал в некий заколдованный круг: несвершение – постоянная мысль о нем – бесконечное повторение его в уме и сердце.
Человеческая личность, судьба человека – поливариантны, то есть заключают в себе некое богатство возможных воплощений. В явном и ярком виде эта поливариантность выражена в универсальном человеке, который осуществляет себя в самых различных областях жизни. Однако этот наиболее понятный и традиционный тип универсальности, в духе итальянского Ренессанса, далеко не единственен. Универсален человек, который выявляет себя как художник и как ученый, как инженер и как философ. Но универсален и тот, чья духовная жизнь по богатству и разнообразию равновелика миру, универсуму – при поглощенности одним-единственным делом. Это универсальность Рембрандта и Льва Толстого и универсальность тысяч, миллионов «малых сил».
И как это ни странно, но второй, по видимости «однообразный» тип универсальности более выигрышен для рассмотрения и понимания поливариантности человеческой личности и судьбы, чем первый, по видимости «разнообразный». Казалось бы, должно быть наоборот: чем внешне богаче и неожиданней обнаруживает себя личность во всех областях жизнедеятельности, тем легче наблюдать в ней богатство сил и возможностей. Но поскольку все, что могло осуществиться, уже осуществилось стройно и как бы даже с необходимостью, то это богатство осуществления воспримется как единственно возможный вариант.
Личность Леонардо, несмотря на ослепительное разнообразие, кажется инвариантной, ибо в его жизни и в жизни его века живопись была неотрывна от науки, а наука – от инженерии. И может даже родиться совершенно фантастическое допущение, что ваш сосед по дому, обыкновеннейший Сидор Сидорович, поливариантней Леонардо, то есть обладает более неожиданным разнообразием души, потому что он, например, после автомобильной катастрофы, разбившей его карьеру инженера-строителя, начал писать романы или учить детей английскому языку по разработанному им новому методу. Но чтобы Сидор Сидорович после автомобильной катастрофы раскрылся в новом варианте судьбы, он должен обладать определенным типом универсальности, нести в себе богатство и разнообразие мира, универсума. И если не произойдет в его жизни ничего непредвиденного, он это богатство воплотит в избранную, единственно любимую работу. Он будет человеком одной деятельности, одной страсти, не догадываясь о том, что мог бы стать писателем или педагогом.
Первый, леонардовский, тип универсальности возможен лишь в определенные эпохи, когда развитие культуры обнажает и делает необходимостью единство всех дарований и видов человеческой деятельности. Второй тип универсальности – на все века, для всех людей. И если говорить о том, что такое истинный неудачник, то это человек, не обладающий ни первым, ни тем более вторым типом универсальности. Это человек неуниверсальный. В нем содержится не образ мира, а лишь образ собственного «я». Поэтому ему неинтересно жить, особенно после несвершения. Чтобы вырыть новое русло, надо быть рекой, отражающей облака, деревья, костры, церкви… Река – универсальна. Парадокс эгоизма в том, что сосредоточенность на себе не собирает, а убивает творческие силы – наверное, потому, что для развития их мало, мало «романа с собой», нужен «роман с миром».
Поливариантность человеческой личности и судьбы все мы ощущаем в детстве, когда в нас, как в калейдоскопе, мелькают великие и заманчивые возможности. Ребенок-неудачник – это такая же почти невозможность, как неплавающая рыба. Потому что любое несвершение рождает новую попытку в новом – часто неожиданном – направлении. Любое несвершение есть не завершение, а начало. Это возможно лишь в детстве или у людей гениальных, в которых не умирает детство до последнего часа.
С течением лет возможности погружаются на дно, как затонувшие корабли; их место занимают неосуществимости. Неосуществимость великих путешествий, великих деяний, великой любви. И – масса неосуществимостей «невеликих», ранящих даже больше. Но открываются одновременно и новые возможности, которые можно не увидеть и не понять ввиду их полной обыкновенности.
В истории семьи могут быть бесспорные доказательства – порой и вещественные весьма – духовных и материальных достижений, и мы склонны рассматривать их иногда как единственно заслуживающие доверия. Но могут быть в истории семьи и доказательства неяркие, как бы даже невидимые, нуждающиеся в углубленном, неторопливом всматривании, на которое все чаще недостает у нас сил и охоты. Это совсем неброское, а может быть, чуть потаенное состоит из будничных дел, из неприметной человечности.
Теперь вернемся в семью Говязовых.
Ксения Александровна рассказывает:
«У мамы было несколько подруг, и все они были для меня тетями. Все они, если судить о них по внешности, люди несбывшиеся. Осталась теперь одна тетя Леля. Да. Хотеева, та самая. Это, по-моему, героический человек. Тетя Леля получает пенсию 60 рублей и опекает одну родственницу и одну неродственницу, оказавшуюся в беде, ездит к ней за город, помогает всем. Бабушка любила тетю Лелю как дочь. Она и остальных подруг матери любила как дочерей. Когда мама тети Лели тяжело заболела из-за склероза, ее нельзя было оставить ни на одну минуту, и тетя Леля с ней совершенно замучилась. Она ведь тогда работала редактором в НИИ, а в ее отсутствие мать уходила и не могла из-за склероза найти дорогу обратно, ее надо было искать на всех улицах…
Когда стряслась эта беда, бабушка переехала к тете Леле и ухаживала за ее мамой до самых последних минут ее жизни – несколько лет. Она забыла на время собственную семью, потому что там была нужнее. А когда еще через несколько лет умирала бабушка, тетя Леля жила у нас – она тогда уже вышла на пенсию. Бабушка умирала долго, и тетя Леля становилась все заботливей и все нежней… Бабушка умирала достойно, ей было уже 95 лет, и доктор, удивленный тем, как она держалась последние часы, спросил: “А кем она была?” Мы ответили – домохозяйкой. А надо было ответить: добрым духом дома, она жила для всех нас и для всех, кто был рядом с нами.
В нашей семье существовала легенда, что бабушка была родственницей Суворова. У нее даже в молодости висел большой портрет Суворова. Дедушка хотел в молодости вести род от известного мореплавателя, она – от великого полководца. При всем семья наша – как это лучше сказать – была не особенно образованной и не особенно утонченной. Но у дедушки, у бабушки и у мамы были хорошо развиты чувства.
Вот чувства у них были высокого класса. Мама никогда не напоминала нам, что не стала артисткой, потому что надо было помогать семье в большой бедности, бегать на работу через Ангару. Она потеряла голос, но не потеряла души. Я все время думаю о ней сейчас, ночами, без сна, пытаюсь понять смысл ее жизни, загадку ее существования. Я думаю о ней без конца.
Она умерла восемь лет назад, и стало пусто в почтовом ящике. А при ней он ломился. Она умела терпеть, всех понимать и не думать о себе. А посмотришь, жизнь ее была бедна и несчастлива после того ледяного купания в Ангаре. Потеряла чудесный голос, бесталанно вышла замуж. Она работала по бухгалтерской части, пока сама не стала бабушкой, не вышла на пенсию, потом растила мою дочь. Умирая, она повторила несколько раз: “У меня была хорошая жизнь… в жизни у меня было немало хорошего… у меня все было хорошо”. И я поняла, что в ее жизни было мало событий, но немало хороших людей. Это она и имела в виду, когда говорила о “хорошей жизни”. Это – и чувства…»
Чувства, думал я, перебирая старые письма и фотографии. Чувства… Можно ли ими, именно ими, а не вещественными, что ли, доказательствами измерять родовое богатство семьи? Говоря о вещественных доказательствах, я подразумеваю не автомашины и дачи и даже не картины и библиотеки, а нечто более тонкое. Вообразим, что всё в истории семьи Ксении Александровны Говязовой осуществилось: по деду Сергею Петровичу род ее восходит к легендарному Чарльзу Кларку, по бабушке Марии Антоновне – к великому Суворову; мать ее, Татьяна Сергеевна, – известная и замечательная певица, сама она стала пианисткой и лауреатом.
Бесспорно, этот ослепительный вариант не исключает чувств. Более того, без них – чувств – не может быть ни исторических путешествий, ни большого искусства. Именно в них исток открытий – любых. Это зерна, из которых вырастает все великое, красивое в мире. Все, чем богата человеческая культура, выросло из этих зерен, из человеческих чувств.
Но ведь культура – это не только открытие континентов и микрочастиц или музыка. Это и те незримые порой нити, которые соединяют людей, возвышая их будничное существование до самых великих и нужных в жизни открытий – человеческого в человеке, это непрерывное увеличение человечности в повседневности. Измеряя родовое богатство семьи чувствами, мы, собственно говоря, взвешиваем ее вклад в культуру народа и человечества. И может быть, самый чистый, лабораторно чистый вариант, когда мы имеем возможность только чувствами измерить богатство семьи, богатство, составленное работой души поколений, – вариант, когда ничего будто бы не осуществилось, когда поставлен жизнью, судьбой для испытания духовных сил опыт видимого несвершения.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: