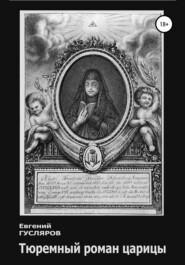По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несуразности начинаются с внешности. Был у него мощный, богатырский торс, а ноги короткие. Так что, когда садился за стол, не столь уж становился короче, возвышался над всеми – горой.
Годам к двадцати, ко времени знакомства с Бриками, сгнили у него все зубы. Рот у него стал старческий, запавший. Его так и звали тогда – Старик.
Есть он мог только манную кашу, и это стало его любимым кушаньем на всю жизнь. Лиля посоветовала ему вставить искусственную нижнюю челюсть. Челюсть вышла несколько выдающейся, и это придало его лицу мужественное и брутальное выражение. На ночь челюсть отправлялась в стакан с водой. Подогревало ли это взаимную похоть? Этот вопрос остался маяковсковедами не прояснённым, как не относящийся к делу.
И даже с искусственной челюстью футурист продолжал питаться почти исключительно сладкою манной кашей. У Пушкина любимым блюдом была печёная картошка.
Когда началась мировая война, юный футурист ходил во главе сомнительно-патриотических банд громить винные и прочие лавки с закусками и пожитками, принадлежавшие лицам с немецкими фамилиями.
А когда пришла ему очередь военного призыва хитроумно откосил от военной службы: «Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертёжником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто».
А потом вообще скрылся под крыло Чуковского и Репина в Куоккале. У него, вроде, даже остатки чести ещё оставались, он объяснял своё отсутствие на фронте, конечно, не трусостью, а убеждениями – «неискоренимой ненавистью ко всякому насилию и убийству». Врал опять, вскоре вся его поэзия станет сплошным подстрекательством и призывом к убийству и насилию.
Его сверстники Николай Гумилёв и Александр Блок записались добровольцами.
А он составил график и объедал по очереди тамошних состоятельных дачников. Не любил только ходить к Репину, тот был травоядным.
Покушавши плотно у очередного милостивца, Маяковский уходил на берег Финского залива, сочинял там поэму «Тринадцатый апостол». Потом это окажется «Облаком в штанах».
И тут всплывает очередная пролетарско-революционная гнусность, чудовищная футуристическая мерзость.
Многое добавляет образу человека легенды, прижизненные и посмертные.
Эта легенда начиналась так.
Как-то ехал Маяковский откуда-то куда-то в поезде. Попутчицей его оказалась очень миленькая, очень чистенькая, очень молодая и бойкая девчушка, только что окончившая гимназию. Жар, не вполне поэтический, стал одолевать буйного футуриста. Девочка испугалась. Маяковский стал её успокаивать. Стал говорить ей о том, какой он нежный бывает. Девочка взглянула на него по-взрослому и сказала вдруг: «Ну да, нежный, прямо облако. – Поглядела ещё и уточнила. – Облако в штанах». Маяковский как-то сразу потух. Всю дорогу потом придумывал всякие наводящие вопросы, чтобы выяснить, запомнила ли девушка неожиданный свой метафорический шедевр. Оказалось, забыла напрочь.
Девушка обронила самый известный теперь образ, объясняющий нутро и суть поэта Маяковского. Девочка обронила, Маяковский поднял.
Но дело тем не кончилось. Это только пролог легенды.
Вспоминает Корней Чуковский:
«Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе “Бродячая собака”. Дочка – Софья (Сона, по-домашнему) Сергеевна Шамардина, татарка, девушка просто неописуемой красоты. Её и Маяковского, похоже, неудержимо тянуло друг другу. В кафе он расплёл, рассыпал её волосы и заявил: Я нарисую Вас такой! Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: Что я скажу её маме и папе?».
Это оказалась та самая девушка из поезда. Живая поэма о любви в футуристическом духе могла продолжиться. Могла воплотится в строчки и прочие дела, в которые оборачивается страсть поэта.
Дальнейшие следы этой страсти обнаружил я не без усилий. Где-то сразу после революции пошли слухи в среде новой литературной пролетарской аристократии, что Маяковский собирается ехать на Капри «бить морду Горькому».
Какова причина?
Это можно узнать, например, из записи воспоминаний той же Лили Брик, сделанных Бенедиктом Сарновым:
«Л.Ю. стала замечать вдруг, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит: – Ты что, разве не знаешь? Это всё идёт от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал её родителей».
Есть ещё письмо Чуковского к Сергееву-Ценскому:
«Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Кручёных, Игорь Северянин были мои первые друзья, теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, – я потерял к футуристам аппетит».
«Бить морду» Горькому Маяковскому не пришлось. Лиля Брик его не пустила, отправилась к Горькому, когда тот уже жил в Москве, сама и взяла с собой Виктора Шкловского, который, как мы помним, своими ушами слышал от Горького мерзопакостную историю о сифилисе. Припёрли они, будто бы, Горького к стенке, но тот так ничего особо нового им не сообщил. Единственно, уточнил, что слышал о том «от очень уважаемого человека» (как записал Шкловский), а вроде даже и от «врача» (как свидетельствует Лиля Брик). Ни адресов, ни имён Горький, ясное дело, не назвал. Тем всё и кончилось.
И это всё о самой громкой легенде Маяковского. Доброжелатели, все сплошь из именитых маяковсковедов, не дали тогда пасть его имени в общем мнении. Всё это объявлено было сплетней Горького. Правда, я так и не смог объяснить себе, зачем это Горькому стало надо. Не знал я об этих мелких пакостных качествах великого пролетарского писателя.
Сплетня, однако, окаменела в легенду. Если у кого-то после прочитанного возникнет желание и меня причислить к разряду наветчиков и пустозвонов, отвечу так, я подобрал на путях к нужной мне истине не сплетню, а легенду уже, артефакт неясной цены.
Но в том, что этот мерзопакостнейший эпизод в жизни Маяковского вполне мог быть, свидетельствует опять он сам, я склонен верить ему. Это написано ещё в 1916-ом году:
Теперь —
клянусь моей языческой силою!
Дайте
Любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Впрочем, когда я в этот раз вышел из архива, у меня было чувство, что я вляпался в собачью дрянь, которой немало бывает на дорожках, протоптанных с благими целями…
***
Если бы Маяковский оказался подозреваемым ещё и в людоедстве, я не удивился бы. Косвенных свидетельств тому в его стихах предостаточно. Хватит не только для подозрений:
Мы тебя доконаем, мир-романтик!
Вместо вер – в душе электричество, пар…
Всех миров богатства прикарманьте!
Стар – убивать!
На пепельницы – черепа!
Это из поэмы «150 000 000», которая была написана между 1919 и 1920 годами.
Оригинальное решение тут пенсионной реформы – «стар – убивать!». Как этого ещё наши законодатели не постановили?..
Особого лиризма исполнены, конечно, и эти слова – «всех миров богатства прикарманьте!». Это ведь прямо библейский ветхозаветный масштаб и смысл. О домах, которые не строили, и колодцах, которые не рыли, мы помним. Их пророк Иезекииль обещал своим потомкам, в том числе прошлым и нынешним расхитителям России, терзавшим и терзающим её под флагами революций, реформ и прочих переустройств.
А вот ещё и смысл мировых перестроек и реконструкций: