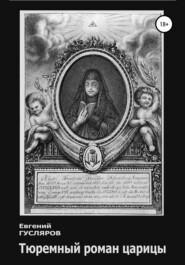По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из документов военно-судного дела следует, что пистолеты (обе пары) к месту дуэли привёз А.А. Столыпин, секундант М.Ю. Лермонтова, следовательно, среди них вряд ли были именно те пистолеты, которые были задействованы в дуэли Пушкина и Дантеса. Но я буду продолжать думать, что те, «пушкинские», пистолеты участвовали и в этой дуэли. И что француз Барант целился в Лермонтова именно «из того пистолета».
Но напрасно тут было бы думать, раз пуля просвистела мимо сердца, значит, смертная беда миновала. Пуля ещё только набирала свой гибельный разбег. Ход событий, как я уже говорил, остановить или изменить было невозможно.
Далее они развивались так. Тут приведу я несколько записей современников.
«История эта довольно долго оставалась без последствий, – запишет впоследствии юный родственник поэта А. Шан-Гирей, – Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец, одна неосторожная барышня Б., вероятно без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на Страстной неделе получил казённую квартиру в третьем этаже с.-петербургского ордонансгауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещён на арсенальную гауптвахту, что на Литейной».
Тут до Лермонтова доходит слух, что Эрнест Барант очень недоволен его показаниями о том, что он «сделал свой выстрел в сторону». И даже утверждает, что такого не было. То есть Лермонтов в этих разговорах представляется лжецом – новое дело…
Тут надо кое-что пояснить. Этот «выстрел в сторону», по которому мы ещё со школьной скамьи привычно судим о благородстве Лермонтова, на самом деле к благородству не имеет никакого отношения. По правилам дуэльной чести этот акт был достаточно оскорбительным, унижающим противника. Этим подчеркивалось, что противник как бы даже и не стоит выстрела. Потому Барант и засуетился.
«…Подсудимый Лермонтов, узнав, что барон де Барант, – узнаём мы из того же следственного дела, – распускал слухи о несправедливости показания его, что он выстрелил при дуэли в сторону, – пригласил его через неслужащего дворянина графа Браницкого к себе на Арсенальную Гауптвахту, на которой содержался, 22 марта вечером в восемь часов, и пришедши к нему без дозволения караульного офицера в коридор под предлогом естественной надобности, объяснился там с де Барантом по сему предмету и, как сознался, предлагал ему, по освобождении из-под ареста, снова с ним стреляться; но Барант, довольствуясь его объяснением, вызова не принял».
Тут как будто бы всё благополучно, но рикошет пущенной когда-то пули непредсказуем и неостановим по-прежнему. Дело выходит за пределы казённого дома. Влиятельнейшие силы участвуют в нём. Решается оно тем, что Эрнеста Баранта отправляют остынуть ненадолго в Париж, а Лермонтова опять на Кавказ. Опустим несколько ярких подробностей из жизни Лермонтова этого периода. Скажем только, что он именно с этого времени стал подлинным героем Кавказской войны и написал все свои основные произведения. Он торопится жить и творить. Предчувствие?..
Главное, что он успел сделать многое.
Ему выхлопотали отпуск ровно за полгода до смерти. Он, чувствуя, что призвание определилось, упорно мечтает об отставке. «Он зрел с каждым новым произведением, – записывает в это время А. Дружинин, – он что-то чудное носил под своим сердцем, как мать носит ребёнка».
Можно ли было всё это осуществить? Только не в случае с Лермонтовым. Его жизнь по-прежнему определял тот самый рок. Чтобы понять, насколько он был неодолим, приведу расклад сил, противостоящих теперь Лермонтову. Из записок Ю. Арнольди: «Пессимисты в этом деле полагали: во-первых, что вторичная высылка Лермонтова, при переводе на сей раз уже не в прежний Нижегородский драгунский, а в какой-то пехотный полк, находящийся в отдаленнейшем и опаснейшем пункте всей военной нашей позиции, доказывает, что государь император считает второй поступок Лермонтова гораздо предосудительнее первого; во-вторых, что здесь вмешаны политические отношения к другой державе, так как Лермонтов имел дуэль с сыном французского посла, а в-третьих, по двум первым причинам неумолимыми противниками помилования неминуемо должны оказаться – с дисциплинарной стороны, великий князь Михаил Павлович, как командир гвардейского корпуса, а с политической стороны – канцлер граф Нессельроде, как министр иностранных дел…».
Могла ли не подсуетиться тут через известного Бенкендорфа заботливая мамаша нашкодившего Эрнеста: «Я более чем когда-либо уверена, что они не могут встретиться без того, чтобы не драться на дуэли…».
Пуля, пущенная в Пушкина, продолжает свой полёт.
Вот ещё эпизод, будто специально призванный приблизить до окончательного совпадения роковое в жизни двух русских гениев. Пушкину предсказала течение всей его жизни в мельчайших подробностях знаменитая в Петербурге ворожея Александра Кирхгоф. Сам я к гаданиям отношусь без почтения, но и без равнодушия. С осторожностью, которая ведь и означает инстинктивный страх перед неизвестным. Как ко всему, что невозможно доказать и нельзя опровергнуть. Во всяком случае, я знаю, что жизнь Пушкина так и сложилась, как распланировала её эта гадалка.
И вот теперь Лермонтов. Он в последний раз покидает Петербург. Неясные и тягостные предчувствия гнетут его. «Мы ужинали втроём, – вспомнит Е. Растопчина, – за маленьким столом, он и ещё другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти…».
О предчувствиях Лермонтова перед последним отъездом из Петербурга в 1841-ом году известен рассказ А. М. Веневитиновой, дочери М.Ю. Виельгорского, записанный П.А. Висковатовым:
«За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у “пяти углов” и предсказавшую смерть Пушкина от “белого человека”; звали её Александра Филипповна, почему она и носила прозвище “Александра Македонского”, после чьей-то неудачной остроты, сопоставившей её с Александром, сыном Филиппа Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, со своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставке и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, “после коей уж ни о чём просить не станешь”. Лермонтов очень этому смеялся, тем более что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятии отставки. “Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят”, – говорил он. Но когда неожиданно пришёл приказ поэту ехать, он был сильно поражён. Припомнилось ему предсказание. Грустное настроение стало ещё заметнее, когда после прощального ужина Лермонтов уронил кольцо, взятое у Соф. Ник. Карамзиной, и, несмотря на поиски всего общества, из которого многие слышали, как оно катилось по паркету, его найти не удалось…».
Ещё один случай, поразивший многих, произошёл тогда. Лермонтов, считавший виновницей смерти Пушкина жену его, страдал чуть ли не комплексом ненависти к Наталье Николаевне. Им приходилось присутствовать в одних и тех же домах, на балах и в собраниях, но он упорно и демонстративно сторонился её. А тут вдруг, накануне отъезда, пришедши провести последний вечер у Карамзиных, сел рядом с ней и завёл разговор, поразивший её своей необычайностью. Она передала содержание этого разговора своей дочери, и та выделит в нём главное: «Он точно стремился заглянуть в тайник её души и, чтобы вызвать её доверие, сам начал посвящать её в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отталкивавших от него ни в чём не повинных людей».
Тут можно подумать, что сам Пушкин сблизил в нужный момент этих людей, и это он говорил тут устами Натали, потому что дальше следует запись удивительная: «Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие из собственной тяжёлой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с её уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял… Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом…».
В начале мая он выехал на Кавказ. Смерть его могла ещё подождать. Случай мог всё исправить. Но и случай был уже на стороне рока. Тенгинский полк, куда ехал Лермонтов, стоял за речкой Лабой. Туда и должен был прибыть опальный поручик и великий поэт. Случай, окончательно предрешивший роковой исход, произошёл в областном Ставрополе. Лермонтова вдруг неумолимо потянуло в Пятигорск. Вот тогда-то и решил он бросать монету. Гривенник упал «решетом». Это означало ехать в Пятигорск – так было загадано. Там, у подножия Машука, закончится долгий гибельный рикошет пули, убившей Пушкина… И этот рикошет соединил их навеки. И перед Божьим престолом, и в памяти людской…
Николай Гоголь
Теневая сторона: Неудавшийся мессия
Среди тех выписок, что я делаю на всякий случай, авось, когда сгодятся, накопилось множество, которые объединены уже условным названием «Русская застольщина». Начал их собирать потому, что уверен – история застолья, обычаев с ним связанных, кулинарные тайны и пристрастия есть немаловажная часть культуры любого народа. Если собрать, к примеру, забытые, уходящие вместе с тёщами и бабушками секреты народной кухни, получится нечто не уступающее по своему значению собраниям спасённых сокровищ любой народной мудрости. И вообще – история кулинарии, история того, как человечество пыталось угодить своему желанию иметь изобильное или хотя бы неголодное застолье и есть, в основном, тот пружинный завод, вечный механизм, который не даёт остановится развитию цивилизаций.
Мысль эта не мне первому приходила в голову. кулинарные мотивы весьма распространены. Особенно в литературе. Взять, например, «Мертвые души». Если взглянуть на них под задуманным углом зрения, то они обернутся тщательно исполненной энциклопедией застолья. И даже больше – сама энциклопедия русских натур, очерченных в гениальной поэме, начинается именно с застольных характеристик. Нет больше в литературе таких описаний застолья, как у Гоголя.
Вникая подробнее в известные нам факты из трагической жизни великого писателя, начинаешь понимать, что все эти описания не случайны ещё и потому, что самому Гоголю они доставляли величайшее удовольствие. Впрочем, не каждый же день жизни ощущался им и складывался трагически. Трагедия этой жизни в её последней полосе. А прежде…
Прежде Гоголь отличался величайшим жизнелюбием. И выражалось это, кроме всего прочего, и в его кулинарных забавах.
«Слышал от М.С. Щепкина, – пишет знаменитый спаситель русского фольклора А.Н. Афанасьев, – Гоголь любил хорошенько покушать, пока не впал в монашеское настроение, и часто проводил время в россказнях с М.С. Щепкиным о разного рода малороссийских кушаньях, причём у обоих глаза бывали масляные и на губах слюнки. На масленой (незадолго перед смертью Гоголя) Щепкин пригласил его на блины, но Гоголь задумал приготовляться к говению и не приехал, а когда Щепкин заехал к нему, не сказался дома. Кажется, Петух, представленный во 2 т. “Мертвых душ”, списан с самого Михаила Семёновича, который любил поесть и поговорить о еде и который так же толст и на воде не тонет, как пузырь».
О том же говорит и жена Щепкина:
«Щепкин очень любил пьесы Гоголя и самого автора, с которым был хорошо знаком; Гоголь со своей стороны, был очень расположен к нему. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме М.С. Щепкина. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, вы могли слышать под конец: вареники, голубцы, паляницы, – и лица их сияли улыбкою».
Вот так, подбирая цитатки под приглянувшуюся мне идею написать главку в будущей книжке о гастрономических вожделениях Гоголя, я впервые наткнулся на имя Матвея Константиновского. И надо сказать, что с этой поры в воспоминаниях и документах резко пошли на убыль нужные мне сведения. Гоголь постепенно становится аскетом. Скушав черствую просфору, он и за это корит себя.
Масленая, в которую приезжал к Гоголю верный друг его актёр Щепкин, была для двух этих великих русских людей прежде всего праздником чревоугодия. Щепкин очень надеялся и в этот раз разбудить в Гоголе прежнее чувство жизни. К тому времени по Москве разнеслись уже слухи, что Гоголь окончательно уморил себя непомерно жестоким постом. Он и не принял Щепкина только потому, что испугался не устоять перед его натиском. А, может быть, в это самое время был у Гоголя настоятель ржевской церкви отец Матвей, неожиданным образом получивший над ним невероятную власть. Во всяком случае, изнурённого и будто опустившегося Николая Васильевича видели в этот же самый вторник на железной дороге провожавшим во Ржев того самого святого отца.
Говорить о том, что Гоголь был убит, было бы, конечно, явным и бездоказательным преувеличением. Речь может идти об иной, но не менее тяжкой и непростительной форме убийства – убийстве души.
Со стороны и с расстояния чуть ли не в полтора столетия рассуждать, конечно, легче. Но все-таки и теперь плохо укладывается в сознании вот такая тяжкая и непростительная для истории русского духа и милосердия картина.
Гоголь умирает. Всем ясно, что умирает он какой-то явно ненатуральной смертью. Никто не может понять, что с ним происходит. И главное, не пытается понять. То ли он впал в религиозный экстаз нездорового пошиба, то ли сходит с ума. Слухами об этом взбудоражена вся Россия, однако рядом с Гоголем какое-то удивительное жестокосердое равнодушие. Бывшие его друзья, устроившие общую обструкцию по поводу выхода «Выбранных мест из переписки…», продолжают выдерживать марку, иные, подверженные ложной деликатности, не пытаются помешать ходу событий, считая себя посторонними в этом будто бы вполне личном деле, третьи с беспечным умилением ждут, чем закончатся великие чудачества великого человека.
Перечитав по возможности всю переписку тех лет, я обнаружил только одно свидетельство подлинной тревоги:
«По случаю вопроса: как быть с Гоголем? – пишет Аксакову один из преданнейших Гоголю людей Николай Языков, – я хотел было созвать у себя род веча; но мне не удалось это сделать: Шевырёва нет уже в Москве, Погодин едет к Троице. Сегодня вечером переговорю с Хомяковым и завтра же напишу вам его мнение: ехать к Гоголю и кому именно? По-моему, ехать необходимо: это одно средство отогнать от него хандру, которая его сокрушает и давит, и может задавить до смерти! А на другой вопрос: кому ехать? у меня вовсе нет ответа. Я не знаю, кто из московских друзей Гоголя более люб ему? Погодин, конечно, заходит к вам – посоветуйтесь с ним. Гоголь должен жить по крайней мере сто лет, и мы должны беречь его для России как зеницу ока, по крайней мере покуда мы живы!».
Письмо написано в 1845-ом году. В следующем году Языкова не стало. Вместе с ним, вероятно, умер и проект спасения Гоголя. Во всяком случае, я не нашёл следов его осуществления, кроме некоторых частных и весьма ненастойчивых попыток.
Еще одно странное дело – никто не пытается узнать хотя бы точный диагноз его болезни. Сейчас предполагается, что у него были как будто признаки тифозного заболевания. Так же, уже после смерти, по чисто внешним проявлениям условно определён другой его тяжкий недуг, который медицина нынешняя называет «депрессивным неврозом». Болезнь эта выражается постоянно угнетённым состоянием духа. Причины она имела чисто механические – сузившиеся капилляры плохо питают определённый участок мозга, который контролирует психическое состояние человека.
Раз не пытаются узнать о болезни, значит, не пытаются и лечить. И это когда касается жизни Гоголя!
Необратимо поздние попытки доискаться истоков болезненного состояния Гоголя были, но они носят какой-то тоже противоестественный и нелепый характер. Между тем у Гоголя в руках величайшее сокровище – уже практически готовый к печати второй том «Мёртвых душ», не говоря уже о том, что жизнь-то его сама по себе не имеет цены.
Величайшая нелепица момента в том, что вся Россия, в которой благополучно жили и здравствовали мудрейшие братья Аксаковы, Тургенев, не вовсе престарелый Жуковский, первостатейный поэт Хомяков, не смогла найти никого, способного противостоять неумному невежде попу-буквоеду, спокойно подсыпающему грубый наждак в утончённый и прекрасный механизм изболевшейся души великого художника.
Гоголь, будто осознавая подступающую свою, говоря юридическим языком, недееспособность, пытается удалить от себя главное своё сокровище – рукопись, которая должна принадлежать России. Она обещана народу, и он будто начинает чувствовать, что не имеет уже на неё прав, как на выросшего и ставшего самостоятельным ребёнка, которого нельзя уже неволить. Он несёт кому-то эту рукопись, чтобы отдалить её от себя, чувствуя, как ненадёжен становится сам – ему вталкивают рукопись обратно в ослабевшие руки, не поняв и не прочувствовав момента. В эту пору в целой России не находится человека, которому Гоголь, умирающий и потерянный, мог бы доверить своё последнее сокровище, которое сам он не в состоянии больше сохранить…
Здравые люди не могут отыскать предлога, чтобы войти к Гоголю, а между тем его квартира полна каких-то окололитературных подозрительных личностей, дурно пахнущих прилипал таланта, неистребимых в любом веке и в любое время. Они в пакостном возбуждении своём трещат на всю Москву, что «не раз побуждали Гоголя сжечь “Мёртвые души”», и это никого не настораживает.
Ходили слухи об одной усердной даме, которая вменила себе в священное призвание воспитывать и поддерживать в Гоголе высшую силу против лукавых наваждений и «воспарений художника». Рассказывали, как один раз летом в деревне у этой благочестивой особы Гоголь читал четьи-минеи и на минуту остановился: загляделся на чудесный пейзаж за окном. Тогда эта дама стала пенять ему, как ленивому школьнику, пойманному на праздной рассеянности. Ему стало стыдно, и он ещё усерднее принялся за чтение.
Интеллигентная Россия не простила Гоголю больных мыслей «Переписки…». Мы, потомки, любящие ту интеллигентную Россию за многое, должны подумать, как простить ей то, что самым бездарным образом проморгала она Гоголя, отдав его на откуп духовнику-изуверу, невеждам и самовлюблённым прощелыгам. Проморгала важное наследство своё – рукопись, которая, как оказалось, всё-таки горит.
Гоголя легко было прибрать к рукам в такой обстановке кому угодно.
Это ведь в какой раз уже – ничтожества налагают на русское достояние свои низменные права и Россия с тем безропотно соглашается. Вся наша история до сегодняшнего дня – есть длинная цепь таких унижений.
Чтобы понять, насколько бездумно и несерьёзно относились к Гоголю в последний период его жизни даже самые мыслящие из сочувствующих ему, достаточно восстановить облик того, кто так успешно противостоял им в борьбе за Гоголя, если, конечно, можно говорить о какой-то борьбе.
Гоголю, прежде всего, ржевский протопоп Матвей Константиновский понадобился, по всей видимости, как один из центральных прототипов во втором томе «Мёртвых душ». В этом втором томе он хотел описать то положительное и спасительное, что есть на Руси.
Почему он выбрал именно его? Может быть, потому что дошла до Гоголя, уже сильно поддавшегося тёмному фанатизму не вполне христианского толка, слава о Константиновском как об упорном до изуверства блюстителе веры. Он был действительно таковым, и это было единственное, чем он мог взять теперешнего Гоголя, усердного до умопомрачения самобичевателя. Но вначале попробуем догадаться, откуда взялось у писателя столь буйное стремление к покаянию.