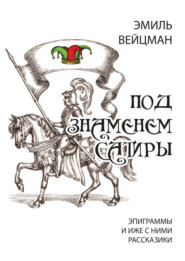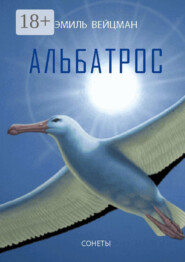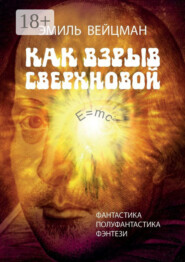По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пасьянс судьбы, или Мастер и Лжемаргарита
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отвечу:
– Естественно, в формировании моей личности ни опята, ни палехская лаковая миниатюра никакой особой роли не сыграли. Кстати, и случайная встреча с прославленным маршалом также, хотя кое-что в этой встрече породило во мне некий импрессионистический диссонанс. Ну никак я не ожидал увидеть что – либо подобное. Ну никак! Да, главное назначение моих воспоминаний – рассказать о формировании и трансформации моей личности во времени, а, стало быть, я должен отразить и время, в котором я жил, дать букет ароматов эпохи. Но букет этот формируется из очень большого количества разного рода мелких фактов, которые, собранные воедино, могут вызвать, помимо всего прочего, интерес у читателя воспоминаний. Естественно, воспоминания всегда субъективны в той или иной степени, но детская субъективность обладает высшей степенью правдивости, ибо малый ребёнок ещё не научился лукавить, учитывая ситуационные обстоятельства.
Итак, я выжил, возможно, не в последнюю очередь благодаря рыбьему жиру, который регулярно принимал в течение достаточно долгого времени. Чтобы было не так противно глотать эту медицинскую пакость со столовой ложки, приходилось сразу же после её опорожнения совать себе в рот кусочек чёрного хлеба, щедро посыпанного пищевой солью. К счастью, ни в рыбьем жире, ни в чёрном хлебе, ни в соли недостатка не было.
Словом, во второй раз беду пронесло мимо, впрочем, она и не думала униматься, вскоре наградив меня некой болезнью костей стопы на правой ноге.
Сегодня я не помню, как эта болезнь проявлялась, но хорошо помню, что её долго не удавалось диагностировать. В конечном итоге это удалось сделать старому и очень опытному московскому хирургу Кистеру. Судя по всему, он служил в том же военном госпитале, что и мой отец. Болезнь эта называлась «Болезнью Келлера», была очень редкой и о ней мало кто знал из медиков. В последующие годы я неоднократно спрашивал про неё у хирургов, и никто из них не знал про эту болезнь. Кистер успокоил моих родителей: болезнь со временем отступит. Так и случилось. Кстати, внук Кистера учился в балетной школе Большого театра, подавал большие надежды, которым (увы!) не суждено было сбыться из-за трагического случая – мальчик утонул. Что ж, кого Боги любят, умирает молодым. Так говорят, и как тут не вспомнит Экклезиаста: «День смерти лучше дня рождения». Тут остаётся лишь сделать следующие выводы. Если мудрый царь Соломон и иже с ним правы, то наша планета не что иное, как место наказания для душ, нагрешивших в ином пространстве – времени и обречённых поэтому мотать свой срок на планете Земля. Чем тяжелее преступление, тем больший срок приходится отбывать. У кого-то он чисто символический, например, у младенцев, умерших сразу после родов.
Как известно, у большинства религий самоубийство считается тяжким грехом. Если следовать этой логике, то лишение самого себя жизни является, по сути дела, бегством из мест заключения. Как следствие, возврат в следующем воплощении на Землю для отбытия более длительного срока и в более тяжёлых условиях, – чтобы впредь неповадно было бежать из земной «колонии – поселения». Мне вот уже за восемьдесят, и сегодня у меня есть некоторые основания предполагать, что в предыдущем своём воплощении я кончил жизнь самоубийством. Как итог, снова отбываю срок на Земле при обстоятельствах, когда самоубийство почти полностью исключается.
Мне могут сказать, а как же Ваш закрытый тригон, о котором Вы писали выше? Он что, оберегая Вас от разного рода земных напастей, одновременно и продлевает сроки наложенного на Вас наказания? Да нет, скорей всего этот «астрологический оберег» свидетельствует о следующем. Во-первых, о работе, которую я должен выполнить во время отбытия на Земле моей очередной ходки. А, во – вторых, об отбытии заключения в условиях так называемой «шарашки», поскольку в противном случае работу, предписанную мне, сделать будет затруднительно. Впрочем, об этом как-нибудь потом.
Между моей выпиской из второй больнички и пребыванием в лесном санатории я был очень физически слаб и меня выносили подышать свежим воздухом на веранду офицерского общежития, укладывая там на чём-то вроде лежака, сооружённого из трёх стульев. Перед осуществлением операции «Свежий воздух» имел место некий инструктаж, проведённый со мною. Он касался вопросов, которые могли быть заданы мне в отсутствие моих родителей. В первую очередь вопросы эти касались моей болезни. Так вот, если ею станут вдруг интересоваться, говорить то?-то и то?-то. Ни слова о лёгких! «Иначе тебя станут все сторониться!»
Вскоре я стал на ноги и смог самостоятельно выходить из дому, получив от отца инструктаж уже совсем иного рода; он свято соблюдается мной и по сю пору: умей постоять за себя! Если досталось на орехи, не жалуйся, придя домой!
Постоять за себя в жизни мне приходилось неоднократно. В детстве и отрочестве это касалось преимущественно драк с другими мальчишками. А вот в зрелые годы драки были совсем иного рода – житейские и интеллектуальные, когда бороться приходилось уже за своё место под солнцем.
Вообще-то моя первая мальчишеская драка состоялась в Москве, ещё до эвакуации. Досталось мне здорово – детской лопаткой по носу, причём ударили не деревянной рукояткой, а кромкой стального полотна. Помню, как мне останавливали кровь. Другие подробности в памяти моей не сохранились. А вот моя новосибирская драка, приключившаяся почти сразу же после отцовского наставления, запомнилась куда лучше. Стычка произошла с каким – то соседским мальчишкой. Нас растащили. Жаловаться я, естественно, не пошёл, но родителям моим о случившемся доложили. Вечером отец спросил меня:
– Ну и кто кого?
Я ответил:
– И мне досталось и ему.
Отец похвалил меня.
Впрочем, нет правил без исключения – жаловаться всё-таки приходилось, но это были жалобы особого свойства – когда ты не рассчитываешь на какую-то реальную помощь со стороны близкого человека, просто тебе нужны сочувствие, моральная поддержка; в конце концов, тебе необходимо выговориться, разрядиться. И только. Ведь изменить ты ничего не можешь – обстоятельства эти сильней тебя. Что я имею в виду? В виду я имею антисемитизм, правильней сказать, юдофобство, с которым впервые в жизни столкнулся именно в Новосибирске, будучи маленьким ребёнком. В этой связи вспоминаются два эпизода.
Первый имел место непосредственно в городе, куда мы с мамой отправились по каким – то делам. Как-то так получилось, что я потерялся. Потерявшись, я, естественно, стал в панике искать маму. Тут – то ко мне и прицепились двое великовозрастных негодяев, решивших поиздеваться над еврейским мальчишкой. Они потребовали, чтобы я произнёс слова «кукуруза». Слово это было в те годы чем-то вроде теста на еврейство. С точки зрения антисемитов, еврей не мог правильно произнести это слово, а обязательно должен был прокартавить «кукууза». К великому разочарованию двух этих мерзавцев, слово кукуруза я произнёс на пять с плюсом. Тогда разочарованные молодчики решили попугать меня, пообещав то ли сделать мне обрезание (кстати, я не был обрезан, поскольку семья моя иудаизма не практиковала), то ли вообще отрезать мой половой член. Подобная перспектива быстро довела меня до истерики. К счастью, мама вскоре нашла меня.
Второй эпизод носил уже не точечный характер, то есть не относился персонально ко мне или же к моей семье, а касался всего еврейства в целом. Я имею в виду некую антисемитскую песенку, стремительно распространившуюся подобно очень заразной болезни по всему Советскому Союзу, включая, естественно, и город Новосибирск. Мелодия песенки этой была самым наглым образом заимствована из очень известного эстрадного шлягера, начинающегося словами «В кейптаунском порту…». Само собою, первоначальный литературный текст этого произведения был заменён другим текстом – примитивно – юдофобским. Автор этого примитива вполне подпадал под определение «дебил». Полагаю, что под это же определение подпадали миллионы людей, в восторге эту песенку распевавшие и даже не подозревавшие, кем был автор её мелодии. А был он евреем по имени Шолом Секунда. Ну чем ни ирония судьбы?! А, впрочем, какая там ирония – очередное её издевательство – что бы хорошего евреи ни придумали, в итоге это «хорошее» против них и оборачивается. Выходит, всем этим антисемитам мы сами активно помогаем.
Песенка начиналась словами:
«Старушка не спеша дорожку перешла,
Её остановил милиционер».
Оказывается, старушка перешла улицу не в положенном месте, а потому должна уплатить штраф в размере трёх рублей. В ответ проштрафившаяся бабуля пустилась в объяснения, естественно, с еврейским акцентом:
«Ах Боже – боже мой! Как я спешу домой —
Сегодня мой Абраша выходной».
Далее нарушительница правил дорожного движения начинает перечислять блюстителю порядка всю снедь, закупленную для прокорма этого самого Абраши, в частности, трапеза будет включать в себя кусочек курочки и пирожок.
Песенка завершается словами:
«Я никому не дам, пусть скушает Абрам,
И будет мой Абраша, как кабан!».
Ну что можно сказать о народе, в котором такая дебильная песенка стала пользоваться среди его значительной части столь большой популярностью?!
Я, лично, не скажу ничего – из-за уважения к другой части этого народа, давшего миру великую литературу и великую музыку. Думается мне, использовать «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» для написания столь гнусного антисемитского текста, значит, по существу, совершать своего рода государственное преступление, наносить посмертную пощёчину таким поэтам и писателям, как Пастернак, Бродский, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Василий Гроссман и далее по списку. Антисемитизм стал картой – фактом № 6 в пасьянсе судьбы, разложенном ею в связи с моей очередной реинкарнацией, не допускающей и минимальной возможности… самоубийства. Хотя, как знать…
От отца я успел получить ещё несколько жизненных наставлений; некоторые из них были раз и навсегда усвоены мной, некоторые регулярно нарушались. К очень крепко усвоенным житейским заповедям относились наставления гигиенического характера. Перед принятием пищи требовалось мыть руки с мылом. То же самое необходимо было делать после посещения клозета по большой нужде. После отправления малой нужды можно было ограничиться мытьём рук без мыла. Во время принятия пищи неукоснительно следовало придерживаться сентенции: «Когда я ем, я глух и нем!» Увы, последнюю рекомендацию я регулярно нарушал и нарушаю. К слову сказать, в мире большинство людей делают то же самое, как результат – некоторые из них кончают жизнь за обеденным столом, подавившись пищей. Впрочем, ею можно подавиться и держа язык за зубами, ибо многим людям свойственно во время принятия пищи мысленно разговаривать самим с собою или же с воображаемым собеседником, что также открывает еде путь к дыхательному горлу. Остаётся добавить, в жизни частенько приходится быть глухим и немым не только в ходе разного рода трапез. Но это уже совсем из другой оперы.
А вот ещё одно наставление, полученное мной от отца в раннем детстве, наставление, которое я свято выполняю и по сей день: «Дал слово, изволь сдержать его во что бы то ни стало!» Золотое правило! Во всяком случае для порядочного человека.
Итак, болезнь лёгких отступила, и меня определили в детский сад, куда я ходил с большой неохотой. Кормили там не ахти как здорово, а главное, после обеда укладывали спать, заставив предварительно снять с себя трусики. Подобного рода неглиже мне почему-то очень не нравилось. Спать полагалось на правом боку, положив «ручки под щёчку». Приходилось класть, вот только и при соблюдении всех ритуальных действий, связанных с обращением к богу Морфею, последний упорно не хотел в дневное время заключать меня в свои объятия. Но нет худа без добра – не является Морфей, обратимся к Меркурию и под его руководством займёмся арифметикой. Наука – то сия в античные времена именно под покровительством Меркурия – Гермеса находилась, да и родился я, если помните, под знаком «Близнецов», чьим управителем (лордом) является именно это античное божество, опекающее также путешественников, мошенников и воров. Именно во время дневной «бессонницы» я каким – то образом научился считать до… тысячи и более. Впрочем, Меркурий Меркурию рознь.
Меркурий является управителем сразу двух астрологических знаков, упомянутых выше – «Близнецов» и «Девы». Знаку «Близнецы» соответствует стихия «Воздух», знаку «Девы» – стихия «Земля». Поэтому люди, рождённые под этими астрологическими знаками и имеющие, следовательно, какие – то аналогичные наклонности, могут отличаться друг от друга характером этих наклонностей. Выше мы уже упомянули, что Меркурий, в частности, покровительствует воровскому люду. Но вор – то вору рознь. Кто-то нечист на руку по части разного рода имущества (денег, например), а кто-то по части кражи интеллектуальной собственности. Так вот, карманники, домушники, скакари и прочее ворьё, охочее до незаконного присвоения материальных благ, находится под опекой именно приземлённого Меркурия, планеты, управляющей знаком «Девы». В свою очередь разного рода плагиаторы должны опекаться Меркурием, управляющим знаком «Близнецов». Я никогда не был особенно охоч ни до какой чужой собственности, но должен признаться, Гермес – Меркурий пару-тройку раз в жизни сумел совратить меня. Это случилось в детстве. Напишу о двух случаях.
В первом из них я покусился на семейную кассу. Помнится, отец принёс домой какие – то деньги и отдал их маме. Мама их пересчитала, но прятать затем не стала, оставив купюры на виду. Когда в комнате никого не было, я взял несколько денежных знаков и спрятал их в весьма толстую книгу, недавно подаренную мне. Книга называлась «Новый швейцарский Робинзон». Написали книгу И. Масе и П. Сталь. Одна из купюр особенно понравилась мне. Это были тридцать рублей. «Тридцатку» украшал портрет Ленина, и была она ярко красного цвета.
Вскоре родители установили, что с деньгами что-то не так. Принялись искать недостающую сумму, но ничего не нашли – оно и понятно:
Робинзоны, будучи путешественниками, также находятся под покровительством сандалекрылого бога, а потому к другим его подопечным могут относиться терпимо. Ну а что я?!
Да ничего особенного. Поначалу я предполагал потратить похищенные деньги на какую-нибудь сдобу. Вот только где её купишь в военном городке в 1942 году? Очень скоро я вообще потерял всякий интерес к похищенному мной. Деньги в конечном итоге нашлись. Я рассказал о них по секрету своему приятелю, а тот в свою очередь раскрыл нашу тайну своим родителям.
Никакого наказания я не понёс. О чём со мной говорили отец с матерью после прояснения ситуации, не помню. Возможно, вообще никаких разговоров не было, но в конечном итоге сентенцию «На чужой каравай рта не разевай!» я усвоил крепко. Это касалось в первую очередь частного «каравая», то есть имущества, принадлежащего конкретному человеку. Впрочем, и «государственный каравай» меня не очень заботил, если не касался книг. Тут я несколько раз был не без греха, и один из этих грешков вполне достоин быть упомянутым в моих воспоминаниях.
Опять-таки случилось всё в детстве, правда, уже в мои школьные годы. Грешен, я снова нарушаю хронологию в моём повествовании, но, коли уж разговор пошёл о каких-то наклонностях, наметившихся в раннем детстве, то лучше всего разобраться с ними сразу, раз и навсегда, не возвращаясь к ним по ходу воспоминаний. Случай этот произошёл в пионерском лагере Министерства геологии.
В Советские времена в каждом приличном пионерском лагере обязательно была детская библиотечка. Имелась она и в пионерском лагере Министерства геологии. В это книжное собрание попали книжки, отобранные из библиотеки министерства, о чём свидетельствовали штампы, поставленные на титульных листах изданий. Книгами и их чтением я «заболел» ещё в раннем детстве. Находясь в пионерлагере, я, понятно, тотчас оказался читателем лагерной библиотечки, и мне сразу же приглянулся поэтический сборник Николая Алексеевича Некрасова. Естественно, библиотекарь при выдаче книг юным читателям фиксировал, кому именно и что именно было выдано для прочтения, вот только я каким – то образом умудрился избежать рутинной регистрации. При закрытии пионерлагеря было установлено: в библиотеке имеет место пропажа нескольких книг. Предполагалось провести досмотр вещей у отъезжающей детворы, но он по каким – то причинам не состоялся и «Некрасов» отправился ко мне домой. Этот книжный том и по сей день пребывает в моей библиотеке, увенчанный печатью союзного министерства.
Испытал ли я тогда и после какие-нибудь угрызения совести, связанные с присвоением социалистической собственности в виде книги из министерской библиотеки? Каюсь, никаких угрызений совести я не испытал. Ни в момент присвоения, ни тем более годы спустя. Иначе и быть не могло. В похищенную книгу я был влюблён, а ради любви чего не сделаешь. Во-вторых, книга принадлежала не конкретному человеку, а государству, которое, не стесняясь, под благовидными предлогами бессовестно обирало народ год за годом. В-третьих… А вот, в-третьих, я, судя по всему, поторопился с обещанием больше по ходу моих мемуаров не возвращаться к «приватизации государственных книг». Возвращусь ещё, но очень нескоро, и если Некрасов был похищен исключительно из-за любви, то книги, приватизированные мной многие годы спустя (в постсоветский период), оказались в полном моём распоряжении исключительно из любви к… науке, причём присвоение тут было произведено не одним мною, а в составе некоторой группы из двух человек.
Моё явное тяготение к книге двойственно. Разумеется, в первую очередь меня интересует её содержание, но далеко не в последнюю очередь для меня важно, как книга сделана полиграфически. С женщинами, кстати, несколько наоборот: внешность на первом месте, внутреннее содержание на втором. Вот только в случае с прекрасным полом весомости внешнего и внутреннего весьма близки друг к другу. В «книжном случае» – содержание прежде всего! Одного классного оформления совершенно недостаточно. Хорошо изданная «Книга тысячи и одной ночи», конечно, радует глаз. Но сказки и истории царицы Шахерезады достойны прочтения вне зависимости от того, как они изданы. Бездарные романы советских «классиков» типа Всеволода Кочетова и Михаила Бубеннова не спасут никакие оформительские чудеса. Впрочем, возможны ли они при издании романов такого сорта?!
Но вернёмся к моему пребыванию в Новосибирске, именуемому до революции Новониколаевском.
Итак, ни корь, ни воспаление лёгких, ни туберкулёзный процесс в них не привели меня к летальному исходу. «Тригон» исправно сделал своё дело. Он и дальше продолжал делать его. Как одно из следствий, я не сломал себе шею, свалившись с дерева, на которое вскарабкался. Более того, я вообще ничего себе не сломал, а ведь упал – то с довольно приличной высоты. Остаётся добавить, что после этого падения с дерева ничего угрожающего моему здоровью и жизни в Сибири больше не приключилось – регулярно посещал детский сад, где мне почему-то не очень нравилось, и подрастал себе потихоньку. Кстати, именно в этом дошкольном заведении мной были подучены первые сведения о сексуальной жизни гомо сапиенс. Были эти сведения, чёрт знает как нелепы, и приводить их на страницах моих мемуаров я не стану; замечу лишь, сведения в этой области человеческих знаний, приобретённые мной к концу жизни, порою тоже представляются мне достаточно нелепыми.
Чем ещё запомнился мне этот новосибирский детский сад? Ну прежде всего довольно скудными порциями варёной вермишели, которой нас регулярно кормили. Хотелось, чтобы на тарелке её было побольше, например, как у баяниста, с которым мы регулярно разучивали новые песни. Баянист этот пару раз в неделю приходил к нам в детский сад со своим инструментом. Приходил, как правило, к завтраку, положенному и ему. Сажали этого служителя муз за отдельный стол, но в том же зале, где принимали пищу и воспитанники детского сада. Так что содержание тарелки музыканта секретом для нас дошколят не являлось. Судя по всему, баянист этот был профессионалом весьма приличного уровня. Меня могут спросить, а на основании чего я делаю сегодня, спустя 60 лет, подобного рода выводы. Отвечу: на основании моей хорошей памяти вообще и памяти музыкальной, в частности. Не припомню, чтобы во время разучивания нами песен баянист хоть раз сфальшивил. От природы у меня очень хороший музыкальный слух, хотя и не абсолютный. Фальшивая нота беспощадно режет его, выводя из душевного равновесия. Чувством ритма Бог меня тоже не обидел. Сбой в ритме уже в раннем детстве фиксировался мной немедленно. Баянист никакими ритмическими сбоями не грешил. Техника исполнения была на уровне, Словом, профессионал. Возможно, эвакуированный в Новосибирск из какого-то города, находящегося в европейской части Советского Союза.
В памяти моей остались три песни, которые мы разучивали в детском саду. Ими были: «Марш артиллеристов», «Вечер на рейде» и «Два Максима».
Уроки хорового пения оказались для меня весьма кстати. Именно «Марш артиллеристов» я спел в 1945 году в Москве на вступительном экзамене в районную музыкальную школу, что находилась рядом с Московским планетарием на Садовой-Кудринской улице. Но всему своё время – до 1945 года мне ещё много есть, о чём поведать.
Итак, мы, воспитанники детского сада, с вожделением посматривали на тарелку с варёной вермишелью, стоящую на обеденном столе перед баянистом. Но лучше всего о хронической нехватке пищевых калорий, поступающих в наш организм с едою, расскажет следующий эпизод. Он случился уже после того, как отец снова отправился на фронт.
Однажды вечером мама пришла с работы домой, принеся с собою два чуда. Это были белый батон свежайшего хлеба и кринка с отличной сметаной. (Не знаю уж, где мама всё это раздобыла.) На семейном совете было решено: половину принесённого съесть немедленно, остальное оставить до следующего дня. М-да! Человек предполагает, а Его Величество Желудок частенько располагает.
Не успели мы оглянуться, как половина принесённого оказалась съеденной. И вот тут-то начались мои и мамины муки – вторые половины хлеба и сметаны прямо-таки рвались в наши рты. Какое – то время мы стойко сопротивлялись этой гастрономической атаке, да куда там… Слишком неравны были силы двух оголодавших человек и идущих в психическую атаку на них сверхдефицитных продуктов. Пришлось сдаться на милость победителей, полностью, вручив им ключи от наших желудков. Короче, безоговорочная капитуляция!
Человек, переживший трагическую ленинградскую блокаду, вполне мог бы спросить, прочтя описание вышеприведенного пиршества:
– Естественно, в формировании моей личности ни опята, ни палехская лаковая миниатюра никакой особой роли не сыграли. Кстати, и случайная встреча с прославленным маршалом также, хотя кое-что в этой встрече породило во мне некий импрессионистический диссонанс. Ну никак я не ожидал увидеть что – либо подобное. Ну никак! Да, главное назначение моих воспоминаний – рассказать о формировании и трансформации моей личности во времени, а, стало быть, я должен отразить и время, в котором я жил, дать букет ароматов эпохи. Но букет этот формируется из очень большого количества разного рода мелких фактов, которые, собранные воедино, могут вызвать, помимо всего прочего, интерес у читателя воспоминаний. Естественно, воспоминания всегда субъективны в той или иной степени, но детская субъективность обладает высшей степенью правдивости, ибо малый ребёнок ещё не научился лукавить, учитывая ситуационные обстоятельства.
Итак, я выжил, возможно, не в последнюю очередь благодаря рыбьему жиру, который регулярно принимал в течение достаточно долгого времени. Чтобы было не так противно глотать эту медицинскую пакость со столовой ложки, приходилось сразу же после её опорожнения совать себе в рот кусочек чёрного хлеба, щедро посыпанного пищевой солью. К счастью, ни в рыбьем жире, ни в чёрном хлебе, ни в соли недостатка не было.
Словом, во второй раз беду пронесло мимо, впрочем, она и не думала униматься, вскоре наградив меня некой болезнью костей стопы на правой ноге.
Сегодня я не помню, как эта болезнь проявлялась, но хорошо помню, что её долго не удавалось диагностировать. В конечном итоге это удалось сделать старому и очень опытному московскому хирургу Кистеру. Судя по всему, он служил в том же военном госпитале, что и мой отец. Болезнь эта называлась «Болезнью Келлера», была очень редкой и о ней мало кто знал из медиков. В последующие годы я неоднократно спрашивал про неё у хирургов, и никто из них не знал про эту болезнь. Кистер успокоил моих родителей: болезнь со временем отступит. Так и случилось. Кстати, внук Кистера учился в балетной школе Большого театра, подавал большие надежды, которым (увы!) не суждено было сбыться из-за трагического случая – мальчик утонул. Что ж, кого Боги любят, умирает молодым. Так говорят, и как тут не вспомнит Экклезиаста: «День смерти лучше дня рождения». Тут остаётся лишь сделать следующие выводы. Если мудрый царь Соломон и иже с ним правы, то наша планета не что иное, как место наказания для душ, нагрешивших в ином пространстве – времени и обречённых поэтому мотать свой срок на планете Земля. Чем тяжелее преступление, тем больший срок приходится отбывать. У кого-то он чисто символический, например, у младенцев, умерших сразу после родов.
Как известно, у большинства религий самоубийство считается тяжким грехом. Если следовать этой логике, то лишение самого себя жизни является, по сути дела, бегством из мест заключения. Как следствие, возврат в следующем воплощении на Землю для отбытия более длительного срока и в более тяжёлых условиях, – чтобы впредь неповадно было бежать из земной «колонии – поселения». Мне вот уже за восемьдесят, и сегодня у меня есть некоторые основания предполагать, что в предыдущем своём воплощении я кончил жизнь самоубийством. Как итог, снова отбываю срок на Земле при обстоятельствах, когда самоубийство почти полностью исключается.
Мне могут сказать, а как же Ваш закрытый тригон, о котором Вы писали выше? Он что, оберегая Вас от разного рода земных напастей, одновременно и продлевает сроки наложенного на Вас наказания? Да нет, скорей всего этот «астрологический оберег» свидетельствует о следующем. Во-первых, о работе, которую я должен выполнить во время отбытия на Земле моей очередной ходки. А, во – вторых, об отбытии заключения в условиях так называемой «шарашки», поскольку в противном случае работу, предписанную мне, сделать будет затруднительно. Впрочем, об этом как-нибудь потом.
Между моей выпиской из второй больнички и пребыванием в лесном санатории я был очень физически слаб и меня выносили подышать свежим воздухом на веранду офицерского общежития, укладывая там на чём-то вроде лежака, сооружённого из трёх стульев. Перед осуществлением операции «Свежий воздух» имел место некий инструктаж, проведённый со мною. Он касался вопросов, которые могли быть заданы мне в отсутствие моих родителей. В первую очередь вопросы эти касались моей болезни. Так вот, если ею станут вдруг интересоваться, говорить то?-то и то?-то. Ни слова о лёгких! «Иначе тебя станут все сторониться!»
Вскоре я стал на ноги и смог самостоятельно выходить из дому, получив от отца инструктаж уже совсем иного рода; он свято соблюдается мной и по сю пору: умей постоять за себя! Если досталось на орехи, не жалуйся, придя домой!
Постоять за себя в жизни мне приходилось неоднократно. В детстве и отрочестве это касалось преимущественно драк с другими мальчишками. А вот в зрелые годы драки были совсем иного рода – житейские и интеллектуальные, когда бороться приходилось уже за своё место под солнцем.
Вообще-то моя первая мальчишеская драка состоялась в Москве, ещё до эвакуации. Досталось мне здорово – детской лопаткой по носу, причём ударили не деревянной рукояткой, а кромкой стального полотна. Помню, как мне останавливали кровь. Другие подробности в памяти моей не сохранились. А вот моя новосибирская драка, приключившаяся почти сразу же после отцовского наставления, запомнилась куда лучше. Стычка произошла с каким – то соседским мальчишкой. Нас растащили. Жаловаться я, естественно, не пошёл, но родителям моим о случившемся доложили. Вечером отец спросил меня:
– Ну и кто кого?
Я ответил:
– И мне досталось и ему.
Отец похвалил меня.
Впрочем, нет правил без исключения – жаловаться всё-таки приходилось, но это были жалобы особого свойства – когда ты не рассчитываешь на какую-то реальную помощь со стороны близкого человека, просто тебе нужны сочувствие, моральная поддержка; в конце концов, тебе необходимо выговориться, разрядиться. И только. Ведь изменить ты ничего не можешь – обстоятельства эти сильней тебя. Что я имею в виду? В виду я имею антисемитизм, правильней сказать, юдофобство, с которым впервые в жизни столкнулся именно в Новосибирске, будучи маленьким ребёнком. В этой связи вспоминаются два эпизода.
Первый имел место непосредственно в городе, куда мы с мамой отправились по каким – то делам. Как-то так получилось, что я потерялся. Потерявшись, я, естественно, стал в панике искать маму. Тут – то ко мне и прицепились двое великовозрастных негодяев, решивших поиздеваться над еврейским мальчишкой. Они потребовали, чтобы я произнёс слова «кукуруза». Слово это было в те годы чем-то вроде теста на еврейство. С точки зрения антисемитов, еврей не мог правильно произнести это слово, а обязательно должен был прокартавить «кукууза». К великому разочарованию двух этих мерзавцев, слово кукуруза я произнёс на пять с плюсом. Тогда разочарованные молодчики решили попугать меня, пообещав то ли сделать мне обрезание (кстати, я не был обрезан, поскольку семья моя иудаизма не практиковала), то ли вообще отрезать мой половой член. Подобная перспектива быстро довела меня до истерики. К счастью, мама вскоре нашла меня.
Второй эпизод носил уже не точечный характер, то есть не относился персонально ко мне или же к моей семье, а касался всего еврейства в целом. Я имею в виду некую антисемитскую песенку, стремительно распространившуюся подобно очень заразной болезни по всему Советскому Союзу, включая, естественно, и город Новосибирск. Мелодия песенки этой была самым наглым образом заимствована из очень известного эстрадного шлягера, начинающегося словами «В кейптаунском порту…». Само собою, первоначальный литературный текст этого произведения был заменён другим текстом – примитивно – юдофобским. Автор этого примитива вполне подпадал под определение «дебил». Полагаю, что под это же определение подпадали миллионы людей, в восторге эту песенку распевавшие и даже не подозревавшие, кем был автор её мелодии. А был он евреем по имени Шолом Секунда. Ну чем ни ирония судьбы?! А, впрочем, какая там ирония – очередное её издевательство – что бы хорошего евреи ни придумали, в итоге это «хорошее» против них и оборачивается. Выходит, всем этим антисемитам мы сами активно помогаем.
Песенка начиналась словами:
«Старушка не спеша дорожку перешла,
Её остановил милиционер».
Оказывается, старушка перешла улицу не в положенном месте, а потому должна уплатить штраф в размере трёх рублей. В ответ проштрафившаяся бабуля пустилась в объяснения, естественно, с еврейским акцентом:
«Ах Боже – боже мой! Как я спешу домой —
Сегодня мой Абраша выходной».
Далее нарушительница правил дорожного движения начинает перечислять блюстителю порядка всю снедь, закупленную для прокорма этого самого Абраши, в частности, трапеза будет включать в себя кусочек курочки и пирожок.
Песенка завершается словами:
«Я никому не дам, пусть скушает Абрам,
И будет мой Абраша, как кабан!».
Ну что можно сказать о народе, в котором такая дебильная песенка стала пользоваться среди его значительной части столь большой популярностью?!
Я, лично, не скажу ничего – из-за уважения к другой части этого народа, давшего миру великую литературу и великую музыку. Думается мне, использовать «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» для написания столь гнусного антисемитского текста, значит, по существу, совершать своего рода государственное преступление, наносить посмертную пощёчину таким поэтам и писателям, как Пастернак, Бродский, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Василий Гроссман и далее по списку. Антисемитизм стал картой – фактом № 6 в пасьянсе судьбы, разложенном ею в связи с моей очередной реинкарнацией, не допускающей и минимальной возможности… самоубийства. Хотя, как знать…
От отца я успел получить ещё несколько жизненных наставлений; некоторые из них были раз и навсегда усвоены мной, некоторые регулярно нарушались. К очень крепко усвоенным житейским заповедям относились наставления гигиенического характера. Перед принятием пищи требовалось мыть руки с мылом. То же самое необходимо было делать после посещения клозета по большой нужде. После отправления малой нужды можно было ограничиться мытьём рук без мыла. Во время принятия пищи неукоснительно следовало придерживаться сентенции: «Когда я ем, я глух и нем!» Увы, последнюю рекомендацию я регулярно нарушал и нарушаю. К слову сказать, в мире большинство людей делают то же самое, как результат – некоторые из них кончают жизнь за обеденным столом, подавившись пищей. Впрочем, ею можно подавиться и держа язык за зубами, ибо многим людям свойственно во время принятия пищи мысленно разговаривать самим с собою или же с воображаемым собеседником, что также открывает еде путь к дыхательному горлу. Остаётся добавить, в жизни частенько приходится быть глухим и немым не только в ходе разного рода трапез. Но это уже совсем из другой оперы.
А вот ещё одно наставление, полученное мной от отца в раннем детстве, наставление, которое я свято выполняю и по сей день: «Дал слово, изволь сдержать его во что бы то ни стало!» Золотое правило! Во всяком случае для порядочного человека.
Итак, болезнь лёгких отступила, и меня определили в детский сад, куда я ходил с большой неохотой. Кормили там не ахти как здорово, а главное, после обеда укладывали спать, заставив предварительно снять с себя трусики. Подобного рода неглиже мне почему-то очень не нравилось. Спать полагалось на правом боку, положив «ручки под щёчку». Приходилось класть, вот только и при соблюдении всех ритуальных действий, связанных с обращением к богу Морфею, последний упорно не хотел в дневное время заключать меня в свои объятия. Но нет худа без добра – не является Морфей, обратимся к Меркурию и под его руководством займёмся арифметикой. Наука – то сия в античные времена именно под покровительством Меркурия – Гермеса находилась, да и родился я, если помните, под знаком «Близнецов», чьим управителем (лордом) является именно это античное божество, опекающее также путешественников, мошенников и воров. Именно во время дневной «бессонницы» я каким – то образом научился считать до… тысячи и более. Впрочем, Меркурий Меркурию рознь.
Меркурий является управителем сразу двух астрологических знаков, упомянутых выше – «Близнецов» и «Девы». Знаку «Близнецы» соответствует стихия «Воздух», знаку «Девы» – стихия «Земля». Поэтому люди, рождённые под этими астрологическими знаками и имеющие, следовательно, какие – то аналогичные наклонности, могут отличаться друг от друга характером этих наклонностей. Выше мы уже упомянули, что Меркурий, в частности, покровительствует воровскому люду. Но вор – то вору рознь. Кто-то нечист на руку по части разного рода имущества (денег, например), а кто-то по части кражи интеллектуальной собственности. Так вот, карманники, домушники, скакари и прочее ворьё, охочее до незаконного присвоения материальных благ, находится под опекой именно приземлённого Меркурия, планеты, управляющей знаком «Девы». В свою очередь разного рода плагиаторы должны опекаться Меркурием, управляющим знаком «Близнецов». Я никогда не был особенно охоч ни до какой чужой собственности, но должен признаться, Гермес – Меркурий пару-тройку раз в жизни сумел совратить меня. Это случилось в детстве. Напишу о двух случаях.
В первом из них я покусился на семейную кассу. Помнится, отец принёс домой какие – то деньги и отдал их маме. Мама их пересчитала, но прятать затем не стала, оставив купюры на виду. Когда в комнате никого не было, я взял несколько денежных знаков и спрятал их в весьма толстую книгу, недавно подаренную мне. Книга называлась «Новый швейцарский Робинзон». Написали книгу И. Масе и П. Сталь. Одна из купюр особенно понравилась мне. Это были тридцать рублей. «Тридцатку» украшал портрет Ленина, и была она ярко красного цвета.
Вскоре родители установили, что с деньгами что-то не так. Принялись искать недостающую сумму, но ничего не нашли – оно и понятно:
Робинзоны, будучи путешественниками, также находятся под покровительством сандалекрылого бога, а потому к другим его подопечным могут относиться терпимо. Ну а что я?!
Да ничего особенного. Поначалу я предполагал потратить похищенные деньги на какую-нибудь сдобу. Вот только где её купишь в военном городке в 1942 году? Очень скоро я вообще потерял всякий интерес к похищенному мной. Деньги в конечном итоге нашлись. Я рассказал о них по секрету своему приятелю, а тот в свою очередь раскрыл нашу тайну своим родителям.
Никакого наказания я не понёс. О чём со мной говорили отец с матерью после прояснения ситуации, не помню. Возможно, вообще никаких разговоров не было, но в конечном итоге сентенцию «На чужой каравай рта не разевай!» я усвоил крепко. Это касалось в первую очередь частного «каравая», то есть имущества, принадлежащего конкретному человеку. Впрочем, и «государственный каравай» меня не очень заботил, если не касался книг. Тут я несколько раз был не без греха, и один из этих грешков вполне достоин быть упомянутым в моих воспоминаниях.
Опять-таки случилось всё в детстве, правда, уже в мои школьные годы. Грешен, я снова нарушаю хронологию в моём повествовании, но, коли уж разговор пошёл о каких-то наклонностях, наметившихся в раннем детстве, то лучше всего разобраться с ними сразу, раз и навсегда, не возвращаясь к ним по ходу воспоминаний. Случай этот произошёл в пионерском лагере Министерства геологии.
В Советские времена в каждом приличном пионерском лагере обязательно была детская библиотечка. Имелась она и в пионерском лагере Министерства геологии. В это книжное собрание попали книжки, отобранные из библиотеки министерства, о чём свидетельствовали штампы, поставленные на титульных листах изданий. Книгами и их чтением я «заболел» ещё в раннем детстве. Находясь в пионерлагере, я, понятно, тотчас оказался читателем лагерной библиотечки, и мне сразу же приглянулся поэтический сборник Николая Алексеевича Некрасова. Естественно, библиотекарь при выдаче книг юным читателям фиксировал, кому именно и что именно было выдано для прочтения, вот только я каким – то образом умудрился избежать рутинной регистрации. При закрытии пионерлагеря было установлено: в библиотеке имеет место пропажа нескольких книг. Предполагалось провести досмотр вещей у отъезжающей детворы, но он по каким – то причинам не состоялся и «Некрасов» отправился ко мне домой. Этот книжный том и по сей день пребывает в моей библиотеке, увенчанный печатью союзного министерства.
Испытал ли я тогда и после какие-нибудь угрызения совести, связанные с присвоением социалистической собственности в виде книги из министерской библиотеки? Каюсь, никаких угрызений совести я не испытал. Ни в момент присвоения, ни тем более годы спустя. Иначе и быть не могло. В похищенную книгу я был влюблён, а ради любви чего не сделаешь. Во-вторых, книга принадлежала не конкретному человеку, а государству, которое, не стесняясь, под благовидными предлогами бессовестно обирало народ год за годом. В-третьих… А вот, в-третьих, я, судя по всему, поторопился с обещанием больше по ходу моих мемуаров не возвращаться к «приватизации государственных книг». Возвращусь ещё, но очень нескоро, и если Некрасов был похищен исключительно из-за любви, то книги, приватизированные мной многие годы спустя (в постсоветский период), оказались в полном моём распоряжении исключительно из любви к… науке, причём присвоение тут было произведено не одним мною, а в составе некоторой группы из двух человек.
Моё явное тяготение к книге двойственно. Разумеется, в первую очередь меня интересует её содержание, но далеко не в последнюю очередь для меня важно, как книга сделана полиграфически. С женщинами, кстати, несколько наоборот: внешность на первом месте, внутреннее содержание на втором. Вот только в случае с прекрасным полом весомости внешнего и внутреннего весьма близки друг к другу. В «книжном случае» – содержание прежде всего! Одного классного оформления совершенно недостаточно. Хорошо изданная «Книга тысячи и одной ночи», конечно, радует глаз. Но сказки и истории царицы Шахерезады достойны прочтения вне зависимости от того, как они изданы. Бездарные романы советских «классиков» типа Всеволода Кочетова и Михаила Бубеннова не спасут никакие оформительские чудеса. Впрочем, возможны ли они при издании романов такого сорта?!
Но вернёмся к моему пребыванию в Новосибирске, именуемому до революции Новониколаевском.
Итак, ни корь, ни воспаление лёгких, ни туберкулёзный процесс в них не привели меня к летальному исходу. «Тригон» исправно сделал своё дело. Он и дальше продолжал делать его. Как одно из следствий, я не сломал себе шею, свалившись с дерева, на которое вскарабкался. Более того, я вообще ничего себе не сломал, а ведь упал – то с довольно приличной высоты. Остаётся добавить, что после этого падения с дерева ничего угрожающего моему здоровью и жизни в Сибири больше не приключилось – регулярно посещал детский сад, где мне почему-то не очень нравилось, и подрастал себе потихоньку. Кстати, именно в этом дошкольном заведении мной были подучены первые сведения о сексуальной жизни гомо сапиенс. Были эти сведения, чёрт знает как нелепы, и приводить их на страницах моих мемуаров я не стану; замечу лишь, сведения в этой области человеческих знаний, приобретённые мной к концу жизни, порою тоже представляются мне достаточно нелепыми.
Чем ещё запомнился мне этот новосибирский детский сад? Ну прежде всего довольно скудными порциями варёной вермишели, которой нас регулярно кормили. Хотелось, чтобы на тарелке её было побольше, например, как у баяниста, с которым мы регулярно разучивали новые песни. Баянист этот пару раз в неделю приходил к нам в детский сад со своим инструментом. Приходил, как правило, к завтраку, положенному и ему. Сажали этого служителя муз за отдельный стол, но в том же зале, где принимали пищу и воспитанники детского сада. Так что содержание тарелки музыканта секретом для нас дошколят не являлось. Судя по всему, баянист этот был профессионалом весьма приличного уровня. Меня могут спросить, а на основании чего я делаю сегодня, спустя 60 лет, подобного рода выводы. Отвечу: на основании моей хорошей памяти вообще и памяти музыкальной, в частности. Не припомню, чтобы во время разучивания нами песен баянист хоть раз сфальшивил. От природы у меня очень хороший музыкальный слух, хотя и не абсолютный. Фальшивая нота беспощадно режет его, выводя из душевного равновесия. Чувством ритма Бог меня тоже не обидел. Сбой в ритме уже в раннем детстве фиксировался мной немедленно. Баянист никакими ритмическими сбоями не грешил. Техника исполнения была на уровне, Словом, профессионал. Возможно, эвакуированный в Новосибирск из какого-то города, находящегося в европейской части Советского Союза.
В памяти моей остались три песни, которые мы разучивали в детском саду. Ими были: «Марш артиллеристов», «Вечер на рейде» и «Два Максима».
Уроки хорового пения оказались для меня весьма кстати. Именно «Марш артиллеристов» я спел в 1945 году в Москве на вступительном экзамене в районную музыкальную школу, что находилась рядом с Московским планетарием на Садовой-Кудринской улице. Но всему своё время – до 1945 года мне ещё много есть, о чём поведать.
Итак, мы, воспитанники детского сада, с вожделением посматривали на тарелку с варёной вермишелью, стоящую на обеденном столе перед баянистом. Но лучше всего о хронической нехватке пищевых калорий, поступающих в наш организм с едою, расскажет следующий эпизод. Он случился уже после того, как отец снова отправился на фронт.
Однажды вечером мама пришла с работы домой, принеся с собою два чуда. Это были белый батон свежайшего хлеба и кринка с отличной сметаной. (Не знаю уж, где мама всё это раздобыла.) На семейном совете было решено: половину принесённого съесть немедленно, остальное оставить до следующего дня. М-да! Человек предполагает, а Его Величество Желудок частенько располагает.
Не успели мы оглянуться, как половина принесённого оказалась съеденной. И вот тут-то начались мои и мамины муки – вторые половины хлеба и сметаны прямо-таки рвались в наши рты. Какое – то время мы стойко сопротивлялись этой гастрономической атаке, да куда там… Слишком неравны были силы двух оголодавших человек и идущих в психическую атаку на них сверхдефицитных продуктов. Пришлось сдаться на милость победителей, полностью, вручив им ключи от наших желудков. Короче, безоговорочная капитуляция!
Человек, переживший трагическую ленинградскую блокаду, вполне мог бы спросить, прочтя описание вышеприведенного пиршества: