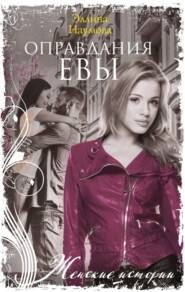По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Будьте здоровы, богаты и прокляты. Полина и Измайлов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды он швырнул на обеденный стол две весомых папки. В одной покоились уже желтеющие машинописные листы его докторской. Но Наталья прозорливо схватилась за вторую, регулярно пополняемую. Карпов признался, что это – описание его открытия.
– Я ждала чего-то подобного, – возликовала Наталья. – Я не ошиблась в тебе, Володя.
Однако доставшаяся Карпову женщина не была стандартной. Вечер, ночь и утро она читала сокровенные записи учителя и мужа, потом велела не пить в течение дня и ушла делать из денег деньги. Вернувшись к аккуратному семейному очагу, Наталья удовлетворенно сказала:
– Я обдумала прочитанное. Вещь тянет на настоящие почести. Как будем реализовывать?
Карпов отнекивался, лез в петлю самоуничижения, травился самокритикой, но вынужден был покориться деятельной жене и произнести два слова – Москва, Иванов.
Через три недели, пристегнувшись всегда кажущимися хлипкими ремнями к креслу в самолете, он отдался особому – с примесью отчаяния и раскаяния страху. Не тому, что спускается из живота вниз и отключает ноги, а поднимающемуся вверх и заполняющему голову. Нет, он не боялся летать. Причиной страха был маршрут: Карпов направлялся в Москву к академику Иванову и вез отредактированную, набранную Натальей на компьютере и распечатанную рукопись. Академик был единственным человеком в стране, компетентным в хитросплетениях идей, доказательств и выводов Владимира Сергеевича. Карпов проклинал затею жены, но в то же время упрямо уцелевшая в хаосе недобрых предчувствий и печальных переживаний надежда на успех гнала его к автостоянке в аэропорту, по лестницам в кабинет старого приятеля, устроителя встречи, и к обиталищу самого академика Иванова.
– Давайте коротенько и главное, – мягко подогнал академик, совершенно внешне не похожий на пестовавшего Владимира Сергеевича дядю Колю.
Карпову почему-то хотелось обнаружить хоть отдаленное сходство межу стариками. И отсутствие такового он сразу воспринял, как провал. Сначала академик был серьезен, потом заулыбался. Ободренный Карпов закончил сообщение и услышал то, чего предпочел бы никогда не слышать:
– Молодой человек, в тридцатые годы я сам занимался этой проблемой. Я не раз обсуждал ее с Капицей, проникнитесь. Вы попались в вечную ловушку – взялись обосновывать безумное предположение. Время от времени именно оно возникает у каждого, влюбленного в пламя. Словом, уже много десятилетий назад мы выяснили, что доказать желаемое невозможно. Я сочувствую вам, как самому себе. Но что поделаешь, четвертое состояние вещества, не стыдно и проиграть. Насколько я понял, вы достаточно одарены, состоите при кафедре и найдете, чем заняться в физике.
Карпову предстояло уйти, улететь домой и больше никогда не возвращаться. Он не помнил, что открывал рот после отповеди академика. Приятель рассказывал ему потом за утешительной бутылкой:
– Ты вытащил рукопись, положил перед Ивановым и твердо посоветовал: «Посмотрите. Безумное предположение я снабдил безумными же доказательствами». Академик буркнул: «Я очень занят». А ты так устало пообещал: «Вам не будет скучно».
Еще через месяц Наталья передала лениво размышлявшему о самоубийцах Карпову телефонограмму: «Иванов в трансе, надо поговорить».
– Мужчина не назвался, – отчиталась добросовестно выхаживающая Карпова Наталья. – Кажется, ты молодчина, Володя.
Она сама набрала московский номер.
– Сергеич, ты могуч! – закричал в трубку приятель Карпова. – Старик не утерпел, вспомнил, видно, былое и изучил твой труд от корки до корки. Он потрясен оригинальностью придуманных тобой экспериментов. Сидел и бормотал: «Вот так надо было, проще, проще». В общем, доказал ты недоказуемое. Он, разумеется, достоинства на пол не ронял: упомянул последние достижения в смежных областях, доступность иностранной литературы, компьютеры, новейшее оборудование. Посетовал, что у них со товарищи ничего этого не было, а потом вздохнул и попросил вызвать тебя для переговоров. Хвалил сильно, тень Ломоносова тревожил, превозносил провинцию с ее здоровыми нравами. Но я тебя сразу предупреждаю – готовься делиться славой. Тебя пригласят в белокаменную на двух, известных всем остепененным, условиях. Ученики академика сделают на основе твоего открытия столько докторских, сколько надобно, и возьмешь Иванова в соавторы. Иначе останешься в дураках на веки вечные. Он – единственный компетентный эксперт, без его заключения и не запатентуешь. За границу сунешься, посадят. А рукопись ты уже отдал. Прельщает тебя роль непризнанного гения? Я лично тебя нормальным помню.
Карпов лишился способности говорить еще в начале приятельского монолога. Наталья силой вырвала из его одеревенелых рук трубку:
– Извините, пожалуйста, он в шоке. Его не на одно открытие хватит, так что пусть академик не беспокоится. Когда приезжать?
– Вы кто? – опешил приятель.
– Любопытная и бесцеремонная жена, – отрекомендовалась Наталья. – Я подслушивала, и мне было приятно. Кстати, оригинал рукописи я защитила нотариально, поэтому без автора обойтись не удастся.
– Ловко, – хохотнул приятель. – Есть, есть женщины в русских селеньях.
Он назвал, видимо, заранее согласованный с Ивановым срок – через месяц, пожелал всех благ, поздравил и простился. Впервые в их совместной жизни Наталья собственноручно налила Карпову джина.
– Ты теперь натренирован Яновым и Свеченковым, ты теперь выдержишь. Видишь, нет худа без добра, надо только перетерпеть худо, – шептала она, целуя седые виски мужа. – Там, куда тебя зовут, все такие культурные, умные, интеллигентные. Ты и не заметишь, как под шумок комплиментов они слегка попользуются твоими результатами. А уж, когда утвердишься, никому ни одной подсказки. Пусть сами соображают и маются, сволочи. Не жадничай. Подарил Янову должность, отдал выгодный договор ученику, у которого жена родила, отдашь и немного этого, нематериального. Ты легко расстаешься с деньгами, не условившись с ними о следующей встрече. Попытайся ради перспективы утихомирить авторскую гордость. Разве тебя купишь на известность во все сужающихся научных кругах? Она только зависть порождает, а ты бороться не приспособлен. Тебе работать надо, а в Москве есть условия. Не слушай ты их стонов по поводу полного обнищания. Сам знаешь, по сравнению с провинцией ребята жируют. Этот смешной академик воображает, что у тебя тут целая лаборатория. А ты эксперименты чуть ли не на довоенном старье проводил. Представь, Володя, что ты в академическом институте наворотишь! Здесь Янов даже реактивы перестал тебе покупать. И заставляет вести тоскливые лабы, от которых младшие преподаватели увиливают. Твоя беда в том, что ты ученый, а не учитель. Хотя, почему беда? Есть и неучебные научные заведения. Забыл уже? Не позволял себе мечтать о них? Тебе в одно такое осталось пинком дверь открыть. И не дуйся на академика. Он вовсе не вороватый подонок. Просто читал тебя, местами узнавал себя. И ему померещилось, будто он сам вплотную приблизился к твоим выводам. А вдруг действительно приблизился, но сумасшедшинки не хватило на концовку. И, вроде, имеет он право подписи. Впрочем, Володя, он ее отработает. Ты ведь не доктор наук. Знаешь, мало родить, надо еще дитятко в люди вывести. Приходится родителям ради этого чем-то жертвовать.
Звучало убедительно, если не сказать завораживающе, и Карпов согласился обсудить предложения академика Иванова.
Владимир Сергеевич Карпов услышал стук открываемой двери и очнулся. «Господи, – подумал, – почему это не история о мужике, которого хитростью лишили интеллектуальной собственности, и он либо мстит, либо правды добивается, либо пьет с горя, а то и все вместе? Много бы я отдал, чтобы случилось так, а не как со мной». Наталья тем временем включила в комнате свет.
– Сумерничаешь? – спросила она непривычно вяло. – Как похоронили Парамонова?
Карпов вспомнил, откуда сегодня вернулся. И вдруг ему неудержимо захотелось выпить, ну хоть с трезвенницей Наташкой. Способна она помянуть человека? Подумаешь, на развод подала. Дядя Коля говаривал, что женщины сдуру садятся на цепь брака, а потом сдуру с нее срываются. И препятствовать им в этих богомерзких метаниях мужчине должно быть недосуг. Его дело – найти себе новую жену – обязательно краше и лучше прежней.
– Наташ, – почти разнеженный этим воспоминанием позвал Карпов, – где наша заветная бутылка виски? Ты же не насовсем ее утром отобрала?
– Насовсем, – сухо и безжалостно подтвердила подозрения мужа Наталья. – И уже успела подарить ее человеку, которому спиртное пойдет впрок.
– Это что за феномен? Француз, что ли? – попытался и не сумел скрыть разочарование Карпов.
– Андрей, сын дедовой жены, – довольно сварливо объяснила Наталья. – Нарвался на тот еще сюрприз. Его не соизволили о свадьбе предупредить. Да еще и на хозяйстве здесь бросили. Плохо ему. А ты сегодня уже пил.
– Ты бритву мою не презентовала ему вместе с виски? – не совсем уверенный в том, что произносит собственную фразу, все-таки сказал Владимир Сергеевич.
– Ты здоровье пойлу презентовал, потенцию, способности, а теперь ревность изображаешь! – возмутилась жена.
– Не начинай в конце! – раздраженно призвал муж.
Он нехотя поднялся, оделся, обулся и, крикнув: «Жди завтра», вышел из дома. Карпов решил навестить Лидию, одиноко обитавшую в девятиэтажке напротив. Когда-то она работала машинисткой на кафедре. Однажды, отчаявшись выйти замуж, даже забеременела от Карпова, решилась оставить ребенка, но не смогла выносить. «Пошлейшая у меня жизнь, – думал Владимир Сергеевич, ежась на наглом холодном ветру. – Жена – бывшая студентка, любовница – бывшая машинистка со службы. Живем в одном дворе. А, с другой стороны, где баб искать в мои-то годы да при моей-то зарплате. Пусть. Как сложилось, так сложилось».
Лидия без колебаний и упреков бросилась ему на шею. Потом достала дешевую водку и вареную колбасу. Карпову стало хорошо.
День второй.
3.
В жизни Андрея было время, когда бессонница своевольничала. Словно из доверия облеченный властью друг, она пыталась прибрать к рукам царственного простака. Сначала ночи молодого музыканта были заполнены шумными беседами с такими же, как он, потенциальными творцами всяческих шедевров. О многом надо было переговорить, чтобы оценить благодатное таинство совместного молчания, когда мысли у каждого свои, а настроение общее. И тактично не появлявшийся в компании талантов Андреев сон вызывал благодарность. Позже удачи одних и провалы других стали навязывать ритмы ссор и примирений, люди объединялись по признаку успеха, а, в конечном счете, гонораров. И дамы легкого поведения, именуемые завистью и злобой, нашли во вчера еще доброжелательных друг к другу дарованиях постоянных клиентов. Сон Андрея и тут не навязывался. Обделывала свои мистические делишки на стороне, не мешая страдать творчески. Андрей тогда мог вдоволь подивиться человеческой мелочности и подлости и ночь напролет просидеть за партитурой. А с рассветом, ощутив себя бестелесным и просветленным, кинуться к инструменту. А потом настал вечер, когда изведенный пустыми страстями Андрей жалобно призвал безрассудно отпущенный на волю сон.
Не тут-то было. То, что не нуждается в кормежке, редко возвращается домой по первому зову. Андрей, как водится, вознегодовал. Напрасная крайность. Сон давал понять, что за долгое пренебрежение им придется платить. Андрею стало жутко. Сон – собственность, значит, корить за его непослушание приходилось хозяина. Ладно, укорил себя, покаялся и, как добрый христианин, должен бы заснуть. Не выходило. Грехи, самонадеянно отпускаемые всем, кроме себя, но перед отпущением переживаемые до потери вдохновения и даже просто способности совершенствовать технику, набрасывались на него. «Почему другим можно, почему, говоря и делая гадости, они получают то же, а часто больше? Почему я расплачиваюсь за каждую мелочь»? – терзался Андрей. И в его голове клубились знакомые образы, навязывая чувства то обиды, то жалости к себе. И никогда радости. Радость посещала его днем, засветло. Неискушенный Андрей готов был ошибаться. Заставляя себя все понимать и всех прощать, он едва не стал адептом вседозволенности. Музыкант тогда, помнится, разгадывал парадоксы: прощающий другим не прощает себе, позволяющий себе не позволяет остальным… Его мучительно интересовали исключения из любых правил. И мыслитель поневоле еще недоумевал, почему удостоился привязанности бессонницы, этой беспринципной содержанки принципиальной души. Надо, надо было меньше думать. Но не получалось, ибо днем было некогда.
Разумеется, мерзавец сон не отказывался вернуться вовсе. Он торговался. Он вымогал спиртное и наведывался к беспамятному Андрею, словно в черных плаще и маске – неузнанный, неотличимый от пьяной отключки. Затем, когда алкоголь перестал его ублаготворять, сон потребовал в качестве платы за свою грядущую верность секса. Но в итоге он и этим пресытился. После шампанского и, казалось, любимой женщины Андрей тщетно пытался заснуть. Случалось забыться ненадолго. Тогда какая-то гнусность вроде чахлого сумрачного леса или физиономий незнакомых людей, коих в реальности никто иметь не смеет, заменяла Андрею сновидения. Невнятные внутренние споры с давно забытыми людьми служили фоном этих бессмысленных и неприятных снов. И служили верой и правдой.
Андрей загадывал: если через час не удастся встретиться с Морфеем, он встанет и разберет сваленные в кучу ноты. Но мученик был так утомлен и разбит, что ухитрялся лишь, сидя на стуле, выкурить сигарету. После чего зевал и плелся в сбитую постель. И издевательство длилось до рассвета. Андрей купил пакетик мака и добросовестно съедал ложку серых и таких маленьких и нежных, что страшно было в рот засыпать, крупинок в полночь. Бесполезно. Он добавлял в мак мед. Запивал кипяченым молоком. Мятным отваром. Не помогало. Андрей понимал, что опиум действеннее. Но коварство не останавливающегося на достигнутом и требующего все новых уступок сна настораживало. «Только не наркотики», – сказал себе музыкант. Благотворное насилие обычного снотворного над взбудораженным мозгом тоже не состоялось. Андрей остался один на один с обнаглевшей бессонницей.
Известно, что у молодых дарований медитации не в моде. Через несколько лет, поладив с собой без помощи психиатров и священников, Андрей прочитал толстенный учебник йоги на английском. И был потрясен. Все, что там предлагалось осторожно и постепенно осваивать, он придумал и применил на практике сам, защищаясь от жестокого ночного самоедства. Но спасение стартовало с отчаяния. Андрей убедил себя в том, что у души действительно есть потребность, право и возможность покидать во сне тело для свидания с неземным и обязанность вернуться к мигу продирания глаз этим самым телом. А последнего ей может совсем не хотеться. То ли в помойке шлаков противно, то ли не те нервные импульсы надоедают. И, когда человек чувствует, что душа его не любит, он перестает спать. Бессонница – способ удержания души от путешествий в один конец, этакая борьба за жизнь во плоти. И надо что-то делать с телом, чтобы беглянка была не прочь в него возвращаться.
Андрей принялся истязать себя голоданием и тренажерами. Сон по-прежнему дразнил его издали. Хуже всего было то, что к этому садисту норовило присоединиться вдохновение. Опытные музыканты могут относиться к нему, как угодно, но для начинающих оно свято, они без него теряются, паникуют и отчаиваются. Так вот оказалось, что вдохновение предпочитало быть причиной аскезы, а не ее следствием. И чем упрямее Андрей потел в спортзале и отказывался от еды, тем труднее становилось доказать себе, будто в музыке есть хоть какой-нибудь смысл для него лично.
Со временем этот бред миновал. Теперь Андрей владел секретом, открытым ему страданием. Ночью на прогулку должно выпускать не душу, а мысли. Чтобы не гибли от гиподинамии. И не истязали тюремщика. Пока их вместилище пустует и проветривается, они, словно голуби из голубятни или куры из курятника, у кого как, летают ли, бродят ли и познают разномастный мир чужих мыслей. Знакомятся. Общаются. Что ж поделать, если большинство из них никому, кроме самого мыслителя, не интересно. Приходится приучать к самообслуживанию. Утром они, усталые и притихшие, возвращаются к хозяину. «Утро вечера мудренее, – кривил искусанные бледные губы Андрей. – Не от „мудрый“, а от „мудреный“, то есть непонятный и запутанный».
К моменту пробуждения после материнской свадьбы то ли не все свои мысли впорхнули в родимую голову, то ли они, наоборот, притащили с собой гостей и разместили их, как пришлось, но Андрею не удавалось связать вчера и сегодня шнуром смысла. «Где я? Что я здесь забыл»? – недоумевал он, выбрыкиваясь из-под теплого одеяла в мрачном темно-синем пододеяльнике. Он поозирался в поисках любимых халата и тапочек, не обнаружил таковых, вернее, вовсе никаких не обнаружил, и сердито пожав плечами, отправился в туалет и ванную голым и босым. Идя обратно, Андрей взглянул в полуоткрытую дверь гостиной и увидел рояль. Поприветствовал благородный, красиво отливающий февральским «светает» инструмент:
– Доброе утро.
Он бы ни за что не решился войти к нему неодетым, хотя в юности бывало, шалил. Натянул в спальне носки, трусы, брюки и рубашку. В облачении явился роялю и нетерпеливо поднял крышку, обнажив строгую клавиатуру. Ему это было можно. Мизинцы Андрея как-то своеобразно поджались, сделались незаметными. И тугой невысокой волной пальцы покатились по октавам, не ломая плавной линии очертания кистей. Даже непонятно было, отчего клавиши погружаются и выныривают. Страсть, растерянность, все, с чем он проснулся, стекали с кончиков его пальцев в прямоугольные углубления и испарялись из рояля звуками. Андрей привычно начал день. Через два часа он вдруг прекратил занятие.
– Я не у себя, мне в школу надо, – ошарашено воскликнул музыкант.
Во взгляде, приласкавшем замолчавший рояль, слово столкнулись на бегу взрослая горечь и детское обожание. Хотя на самом деле все обстояло иначе. Маленький Андрей не чаял, как соскользнуть с лакированного крутящегося табурета, и влюбился в свое «орудие пытки» только, оценив его пригодность для упражнений в самозабвении. «Неоригинально», – подумал он и не расстроился – прошла та пора. Напольные часы пробили девять. Андрей опаздывал. Давненько он не жертвовал спешке завтрак, однако, вновь пришлось. Ничего страшного, он чувствовал себя моложе, играя в недоедание и суету.
Андрей с обывательской точки зрения был несчастнейшим из смертных, потому что ему часто доставало мужества быть честным с самим собой. И на сей раз, сделав шаг по покрытому зимними осадками во всех их метаморфозах тротуару, он признался, что боится прошлого, из которого сплошь состоял для него этот город. Андрей так мучительно пережил здесь свое человеческое начало, что временами впадал в мрачную уверенность – эти улицы привиделись ему в причудливой круговерти бессонницы. Да, переправа наяву вброд через собственные ночные кошмары сулила мало удовольствия.