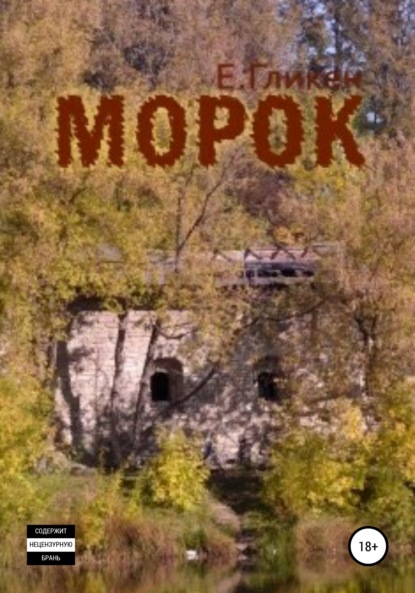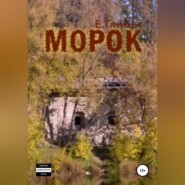По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Морок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Морок
Екатерина Константиновна Гликен
Жизнь коротка, глупа и нелепа. Впрочем, поживи человек чуть подольше, возможно, он смог бы отыскать во всей этой суете и страданиях какой-нибудь смысл. Стоит только так подумать, как вот уже через пять, двадцать, даже тысячу лет… жизнь всё так же глупа, смешна и нелепа.Иннокентий, мечтательный юноша, волею судьбы попал в переплет. Его представления о жизни сломались о реальность. На долю его выпали чудеса и ужасы, и все это он, кажется, готов променять на уютный домик в деревне рядом с матушкой и подругой. Ведь только из-под теплого одеялка жизнь приключенческого романа кажется веселой и удивительной, а самому персонажу и свидетелю событий бывает ой как несладко.Дорожный роман с присущими любому пути приключениями, знакомствами, расставаниями и небольшими путевыми мудростями, сдобренный капелькой магии и украшенный по канту парой-тройкой древних призраков.Содержит нецензурную брань. А также и все остальное, кроме любви, дружбы и преданности
Екатерина Гликен
Морок
***
Жизнь коротка, глупа и нелепа. Впрочем, поживи человек чуть подольше, возможно, он смог бы отыскать во всей этой суете и страданиях какой-нибудь смысл. Стоит только так подумать, как вот уже через пять, двадцать, даже тысячу лет… жизнь всё так же глупа, смешна и нелепа.
***
Лошадь мерно ступала, ритмично кланяясь на каждом шагу и пытаясь выплюнуть донельзя надоевшую уздечку, застрявшую в зубах, кажется, навечно.
Казимир мельтешил рядом, мучаясь с каждым движением от адова огня, охватившего с утра его бедра и ягодицы. Край парчового желтого плаща волочился следом за ним по болотным кочкам, поблескивая золотыми узорами и ныряя в хлюпающие лужицы грязной жижи. Вчера в маленькой деревеньке он имел постыдный опыт езды верхом в чем мать родила. Без седла и без штанов. Как был гарцевал.
Понесло черта вспоминать молодецкую удаль. В крайнем доме сверкнули два черных раскосых глаза в окне, и старого дурака понесло.
«Ничего, до своих дойдёшь, расскажешь, мол о-го-го ещё дед-то», – заискивающе сказал ему на дорогу трактирщик, чтоб его язва взяла.
– Черт бы побрал эту мокрую стервь, – набожно крестясь, стонал Казимир. – Ты, щенок, считай, что тебе очень повезло, что ты сдохнешь раньше, чем узнаешь, что такое баба.
Иннокентий, к которому обращался Казимир, плелся сзади, догоняя всем своим долговязым телом кобылий зад, вытянув шею, на которую была накинута грубая петля конопляной веревки. Он был молод и дерзок. Даже сейчас, будучи захваченным в плен, превозмогая боль стоптанных до крови ног в кожаных скользких сапогах, благодаря которым он не раз уже падал и ехал на пузе за казимировой лошадью, и даже сейчас он воинственно хмурил брови и метал из-под них злобные кинжалы гнева в старика.
Во всяком случае, ему казалось, что злобные.
Ни один из них не долетел до старого Казимира. Он, хоть и бил врагов нещадно везде и всегда, но к мальцу привязался. Пухлые губы, почти девичьи, светлые вьющиеся волосы до плеч, большие глаза… Казимиру все представлялось, что с этакими-то данными, вьюнош должен портить деревенских девок, а не воевать.
Казимир усмехнулся в усы:
– Ишь, какой грозный, зыркает, как котенок тот давеча, ух боюсь, проткнешь бровями-то, эка насупил, того и гляди забодаешь.
И Казимир засмеялся своей веселой шутке хриплым каркающим смехом старой вороны.
Иннокентий страдал. Более, чем физическая, эта, эмоциональная боль, это унижение, эта жалость старого Казимира пробирала его до печенок. Старый ряженый петух в желтой накидке, ковыляющий еле-еле, как он подло, как предательски схватил его.
Иннокентий был одним из немногих в деревне, кто был принят в ряды защитников и прошел весь курс обучения. Матушка днями и ночами напролет, не жалея старых глаз своих, вышивала рушники и подолы платьев, чтобы накопить деньжат на кузнеца. На доспехи собрать денег семье было невозможно. Но меч! Настоящий стальной меч, тяжелый, двуручный, хоть и с самым простеньким эфесом, у Иннокентия появился. Матушка плакала, когда увидала его одетого по всей форме, поднявшего к небу острие оружия. Соседские тетушки кудахтали и умилялись. Лея, опустив голову, глядела исподлобья, и в глазах ее читались и гордость за него, и страх, что важный такой теперь молодец не позарится на нее, и злость, что рвется он куда-то вместо того, чтоб помогать ей сматывать нити шерсти с веретена.
С детства он жаждал боя. Настоящего, честного поединка с врагом, глаза в глаза. Он представлял себе, как умрет от руки более опытного противника. И как воин, превосходящий его в силе и опыте, повергнувший однажды его, склонит голову в дань уважения молодому Иннокентию, который так храбро и мужественно сражался.
Порой, представляя это, Иннокентий мог так расчувствоваться, что из глаз его сами по себе текли слезы, слезы жалости к себе, такому юному и отважному и так рано ушедшему. У него было несколько фраз на случай, если он успеет перед смертью что-то передать родным и близким. Все они не были достаточно хороши, но все же, окажись он в смертельно опасной опасности, ему было бы что сказать этому миру на прощание. Одна из фраз была удивительно прекрасна, она была ритмична и музыкальна, ее он с удовольствием бы завещал встречному барду, чтобы тому было легче сложить песню о славных боях.
Как мерзко, как подло поймала его эта ряженая старая ворона, падкая на все блестящее, звенящая серьгой в ухе, бряцающая перстнями, вся утыканная золотыми пряжками. Не воин, а торговец. Грязный подлый выжига, вечно воняющий луком и водкой, как вор подкрался сзади и набросил на него мешок. И всё. Всё! Никакого благородства. Эта старая сволочь, если была бы в нем хоть капля чести стал бы драться с ним, один на один! Вместо этого он накинул мешок, сзади, втихую.
Иннокентий презирал Казимира, презирал несправедливый мир, презирал болотные кочки, о которые спотыкался, плетясь на веревке за лошадью, не в силах больше укорять самого себя за собственную оплошность, по которой оказался в плену.
Тем временем они вышли на распадок, Казимир остановился. Кобыла его, зная все повадки хозяина стала, как вкопанная, тут же. На болотах было тихо: ни птиц не слыхать, ни жужжания комаров.
– Здесь и заночуем, – сказал Казимир, с кряхтением старой курицы сгибая колени и плюхаясь набок для ночлега.
Есть было нечего. Никакого зверья на болотах и в помине не было.
Казимир отвернулся и тут же захрапел. А Иннокентий долго еще ворочался, руки затекли в петле, шея ныла, а главное, мысли роились в его голове в превеликом множестве. То он представлял, как оплакивает его матушка, то строил план побега, то пытался разгадать, зачем старый черт волочет его за собой по болоту.
Иногда на память ему приходили стародавние рассказы матушки об этих топях. Будто бы был на этом самом месте замок. И не просто, а богатейший, так как стоял аккурат на тракте, через который шли торговые пути из Низин на Взгорья. Почему теперь здесь топь, Иннокентий не знал. А спросить было не у кого. С подлым Казимиром говорить не хотелось вовсе.
Сон понемногу начал наваливаться тяжестью на веки. Сквозь прикрытые глаза он видел размытые серые контуры мелких кустов, видел, как отражается луна в окнах болота, видел серые клубы тумана, волной накатывающиеся с запада. Что-то было такое в этом тумане… Он не был похож на ту дымку, которая поднималась рано утром от реки вблизи его деревни. Дымка стояла над водной гладью, не двигаясь, рвалась на клочья, когда случалось подуть ветру. Здешний туман был плотнее, и, что казалось странным, двигался, переходил с места на место, приближаясь к их распадку.
Иннокентий решил, что таковы все туманы здесь, однако мелкая дрожь схватила его тело, зубы начали стучать. Вовсе не от страха, а от…, от…, непонятно от чего. Он взглянул на сопящего невдалеке Казимира. Тот спал как святой. Туман приближался. Иннокентий захотел закричать, убежать, непонятно, почему. Казалось, уши оглохли и сердце остановилось, а мысль была только одна – бежать, как зверье бежит из горящего леса, не разбирая дороги, лишь бы прочь.
– Казимир! – крикнул Иннокентий.
На самом деле, он хотел крикнуть, но только слабо прохрипел что-то невнятное. Голос, и тот был не в его власти.
Старому вояке было достаточно и этого. Казимир резко вскочил на ноги, и в один прыжок оказался рядом с мальцом. То, что увидел Иннокентий заставило забыть его свой прежний страх от тумана. Глаза Казимира полыхнули ярким красным светом, а из самого нутра его вырвался, хотя и приглушенный, но довольно зловещий рык.
Иннокентий перестал дрожать, вместо этого он теперь пронзительно икал, да так сильно, что, казалось, при каждом новом толчке воздуха из желудка его тело подбрасывало на пару метров от земли. Бежать было никак не возможно, все, что оставалось – зажмуриться.
Открыл глаза он тогда, когда почувствовал, что по волосам и за ухом его треплет чья-то рука. Над ним, опершись одной рукой на колено, а второй трепля по его волосам, стоял Казимир.
– Спужался, малой? Чего сполошился-то? Приснилось что?
– Т-туман, – в перерыве между пиками икоты выпалил Иннокентий?
– И что туман? Не видел туману раньше? – ласково спросил Казимир.
Иннокентий обмяк и обрел дар речи:
– Так то туман какой, наш-то туман все на месте стоит, а этот ходит, будто высматривает что-то, будто живой он, туман этот. Идет на меня, ближе всё, ближе, ближе…
Казимир разогнулся, потянулся, хрустнув затекшими руками, зевнул и уже без всяких эмоций продолжил:
– Ну и что? Это ж ведь туман просто. Даже если ближе подойдет, воздух – и только.
–Нет, в этом воздухе что-то было… – медленно проговорил Иннокентий, втайне надеясь, что Казимир скажет, что там, в тумане быть ничего не могло, кроме ветра. Чтобы окончательно успокоиться, Иннокентию достаточно было простого этого предложения.
– Ну и что, что было? Тут и там, и за горой, и в Низинах, везде что-нибудь да есть. Что ж теперь? Всех пугаться? Наоборот, то оно и славно, что везде-то в мире что-то есть, а значит, ты не один. Ты представь, ну, как ты один остался… Во-от, это-то страшней всего.
Иннокентий замолчал, решив больше ни слова не говорить Казимиру, обидно было, что этот старый дурак мало того, украл его, как курёнка несмышленого, со спины, без боя, а теперь еще и потешается над ним. Стыдно было за себя быть таким нюней. Однако, любопытство взяло верх:
– А что там? Что в тумане?
– Шишиги.
– Шишиги? Что это, шишиги?
– Да ничто, воздух поплотнее чем обычно.
Екатерина Константиновна Гликен
Жизнь коротка, глупа и нелепа. Впрочем, поживи человек чуть подольше, возможно, он смог бы отыскать во всей этой суете и страданиях какой-нибудь смысл. Стоит только так подумать, как вот уже через пять, двадцать, даже тысячу лет… жизнь всё так же глупа, смешна и нелепа.Иннокентий, мечтательный юноша, волею судьбы попал в переплет. Его представления о жизни сломались о реальность. На долю его выпали чудеса и ужасы, и все это он, кажется, готов променять на уютный домик в деревне рядом с матушкой и подругой. Ведь только из-под теплого одеялка жизнь приключенческого романа кажется веселой и удивительной, а самому персонажу и свидетелю событий бывает ой как несладко.Дорожный роман с присущими любому пути приключениями, знакомствами, расставаниями и небольшими путевыми мудростями, сдобренный капелькой магии и украшенный по канту парой-тройкой древних призраков.Содержит нецензурную брань. А также и все остальное, кроме любви, дружбы и преданности
Екатерина Гликен
Морок
***
Жизнь коротка, глупа и нелепа. Впрочем, поживи человек чуть подольше, возможно, он смог бы отыскать во всей этой суете и страданиях какой-нибудь смысл. Стоит только так подумать, как вот уже через пять, двадцать, даже тысячу лет… жизнь всё так же глупа, смешна и нелепа.
***
Лошадь мерно ступала, ритмично кланяясь на каждом шагу и пытаясь выплюнуть донельзя надоевшую уздечку, застрявшую в зубах, кажется, навечно.
Казимир мельтешил рядом, мучаясь с каждым движением от адова огня, охватившего с утра его бедра и ягодицы. Край парчового желтого плаща волочился следом за ним по болотным кочкам, поблескивая золотыми узорами и ныряя в хлюпающие лужицы грязной жижи. Вчера в маленькой деревеньке он имел постыдный опыт езды верхом в чем мать родила. Без седла и без штанов. Как был гарцевал.
Понесло черта вспоминать молодецкую удаль. В крайнем доме сверкнули два черных раскосых глаза в окне, и старого дурака понесло.
«Ничего, до своих дойдёшь, расскажешь, мол о-го-го ещё дед-то», – заискивающе сказал ему на дорогу трактирщик, чтоб его язва взяла.
– Черт бы побрал эту мокрую стервь, – набожно крестясь, стонал Казимир. – Ты, щенок, считай, что тебе очень повезло, что ты сдохнешь раньше, чем узнаешь, что такое баба.
Иннокентий, к которому обращался Казимир, плелся сзади, догоняя всем своим долговязым телом кобылий зад, вытянув шею, на которую была накинута грубая петля конопляной веревки. Он был молод и дерзок. Даже сейчас, будучи захваченным в плен, превозмогая боль стоптанных до крови ног в кожаных скользких сапогах, благодаря которым он не раз уже падал и ехал на пузе за казимировой лошадью, и даже сейчас он воинственно хмурил брови и метал из-под них злобные кинжалы гнева в старика.
Во всяком случае, ему казалось, что злобные.
Ни один из них не долетел до старого Казимира. Он, хоть и бил врагов нещадно везде и всегда, но к мальцу привязался. Пухлые губы, почти девичьи, светлые вьющиеся волосы до плеч, большие глаза… Казимиру все представлялось, что с этакими-то данными, вьюнош должен портить деревенских девок, а не воевать.
Казимир усмехнулся в усы:
– Ишь, какой грозный, зыркает, как котенок тот давеча, ух боюсь, проткнешь бровями-то, эка насупил, того и гляди забодаешь.
И Казимир засмеялся своей веселой шутке хриплым каркающим смехом старой вороны.
Иннокентий страдал. Более, чем физическая, эта, эмоциональная боль, это унижение, эта жалость старого Казимира пробирала его до печенок. Старый ряженый петух в желтой накидке, ковыляющий еле-еле, как он подло, как предательски схватил его.
Иннокентий был одним из немногих в деревне, кто был принят в ряды защитников и прошел весь курс обучения. Матушка днями и ночами напролет, не жалея старых глаз своих, вышивала рушники и подолы платьев, чтобы накопить деньжат на кузнеца. На доспехи собрать денег семье было невозможно. Но меч! Настоящий стальной меч, тяжелый, двуручный, хоть и с самым простеньким эфесом, у Иннокентия появился. Матушка плакала, когда увидала его одетого по всей форме, поднявшего к небу острие оружия. Соседские тетушки кудахтали и умилялись. Лея, опустив голову, глядела исподлобья, и в глазах ее читались и гордость за него, и страх, что важный такой теперь молодец не позарится на нее, и злость, что рвется он куда-то вместо того, чтоб помогать ей сматывать нити шерсти с веретена.
С детства он жаждал боя. Настоящего, честного поединка с врагом, глаза в глаза. Он представлял себе, как умрет от руки более опытного противника. И как воин, превосходящий его в силе и опыте, повергнувший однажды его, склонит голову в дань уважения молодому Иннокентию, который так храбро и мужественно сражался.
Порой, представляя это, Иннокентий мог так расчувствоваться, что из глаз его сами по себе текли слезы, слезы жалости к себе, такому юному и отважному и так рано ушедшему. У него было несколько фраз на случай, если он успеет перед смертью что-то передать родным и близким. Все они не были достаточно хороши, но все же, окажись он в смертельно опасной опасности, ему было бы что сказать этому миру на прощание. Одна из фраз была удивительно прекрасна, она была ритмична и музыкальна, ее он с удовольствием бы завещал встречному барду, чтобы тому было легче сложить песню о славных боях.
Как мерзко, как подло поймала его эта ряженая старая ворона, падкая на все блестящее, звенящая серьгой в ухе, бряцающая перстнями, вся утыканная золотыми пряжками. Не воин, а торговец. Грязный подлый выжига, вечно воняющий луком и водкой, как вор подкрался сзади и набросил на него мешок. И всё. Всё! Никакого благородства. Эта старая сволочь, если была бы в нем хоть капля чести стал бы драться с ним, один на один! Вместо этого он накинул мешок, сзади, втихую.
Иннокентий презирал Казимира, презирал несправедливый мир, презирал болотные кочки, о которые спотыкался, плетясь на веревке за лошадью, не в силах больше укорять самого себя за собственную оплошность, по которой оказался в плену.
Тем временем они вышли на распадок, Казимир остановился. Кобыла его, зная все повадки хозяина стала, как вкопанная, тут же. На болотах было тихо: ни птиц не слыхать, ни жужжания комаров.
– Здесь и заночуем, – сказал Казимир, с кряхтением старой курицы сгибая колени и плюхаясь набок для ночлега.
Есть было нечего. Никакого зверья на болотах и в помине не было.
Казимир отвернулся и тут же захрапел. А Иннокентий долго еще ворочался, руки затекли в петле, шея ныла, а главное, мысли роились в его голове в превеликом множестве. То он представлял, как оплакивает его матушка, то строил план побега, то пытался разгадать, зачем старый черт волочет его за собой по болоту.
Иногда на память ему приходили стародавние рассказы матушки об этих топях. Будто бы был на этом самом месте замок. И не просто, а богатейший, так как стоял аккурат на тракте, через который шли торговые пути из Низин на Взгорья. Почему теперь здесь топь, Иннокентий не знал. А спросить было не у кого. С подлым Казимиром говорить не хотелось вовсе.
Сон понемногу начал наваливаться тяжестью на веки. Сквозь прикрытые глаза он видел размытые серые контуры мелких кустов, видел, как отражается луна в окнах болота, видел серые клубы тумана, волной накатывающиеся с запада. Что-то было такое в этом тумане… Он не был похож на ту дымку, которая поднималась рано утром от реки вблизи его деревни. Дымка стояла над водной гладью, не двигаясь, рвалась на клочья, когда случалось подуть ветру. Здешний туман был плотнее, и, что казалось странным, двигался, переходил с места на место, приближаясь к их распадку.
Иннокентий решил, что таковы все туманы здесь, однако мелкая дрожь схватила его тело, зубы начали стучать. Вовсе не от страха, а от…, от…, непонятно от чего. Он взглянул на сопящего невдалеке Казимира. Тот спал как святой. Туман приближался. Иннокентий захотел закричать, убежать, непонятно, почему. Казалось, уши оглохли и сердце остановилось, а мысль была только одна – бежать, как зверье бежит из горящего леса, не разбирая дороги, лишь бы прочь.
– Казимир! – крикнул Иннокентий.
На самом деле, он хотел крикнуть, но только слабо прохрипел что-то невнятное. Голос, и тот был не в его власти.
Старому вояке было достаточно и этого. Казимир резко вскочил на ноги, и в один прыжок оказался рядом с мальцом. То, что увидел Иннокентий заставило забыть его свой прежний страх от тумана. Глаза Казимира полыхнули ярким красным светом, а из самого нутра его вырвался, хотя и приглушенный, но довольно зловещий рык.
Иннокентий перестал дрожать, вместо этого он теперь пронзительно икал, да так сильно, что, казалось, при каждом новом толчке воздуха из желудка его тело подбрасывало на пару метров от земли. Бежать было никак не возможно, все, что оставалось – зажмуриться.
Открыл глаза он тогда, когда почувствовал, что по волосам и за ухом его треплет чья-то рука. Над ним, опершись одной рукой на колено, а второй трепля по его волосам, стоял Казимир.
– Спужался, малой? Чего сполошился-то? Приснилось что?
– Т-туман, – в перерыве между пиками икоты выпалил Иннокентий?
– И что туман? Не видел туману раньше? – ласково спросил Казимир.
Иннокентий обмяк и обрел дар речи:
– Так то туман какой, наш-то туман все на месте стоит, а этот ходит, будто высматривает что-то, будто живой он, туман этот. Идет на меня, ближе всё, ближе, ближе…
Казимир разогнулся, потянулся, хрустнув затекшими руками, зевнул и уже без всяких эмоций продолжил:
– Ну и что? Это ж ведь туман просто. Даже если ближе подойдет, воздух – и только.
–Нет, в этом воздухе что-то было… – медленно проговорил Иннокентий, втайне надеясь, что Казимир скажет, что там, в тумане быть ничего не могло, кроме ветра. Чтобы окончательно успокоиться, Иннокентию достаточно было простого этого предложения.
– Ну и что, что было? Тут и там, и за горой, и в Низинах, везде что-нибудь да есть. Что ж теперь? Всех пугаться? Наоборот, то оно и славно, что везде-то в мире что-то есть, а значит, ты не один. Ты представь, ну, как ты один остался… Во-от, это-то страшней всего.
Иннокентий замолчал, решив больше ни слова не говорить Казимиру, обидно было, что этот старый дурак мало того, украл его, как курёнка несмышленого, со спины, без боя, а теперь еще и потешается над ним. Стыдно было за себя быть таким нюней. Однако, любопытство взяло верх:
– А что там? Что в тумане?
– Шишиги.
– Шишиги? Что это, шишиги?
– Да ничто, воздух поплотнее чем обычно.