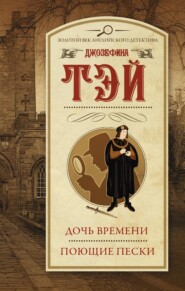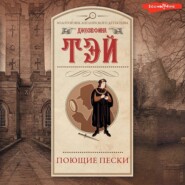По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мисс Пим расставляет точки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И правда, Господи! – произнес с чувством голос, говоривший про молнии.
Тишину разорвал звон колокола. Такой же настойчивый, как и тот, что разбудил их. Темная головка исчезла при первых же звуках, и сквозь шум и звон можно было расслышать только голос Дэйкерс, исполненный жалобного отчаяния. Деловые заботы дня смели допущенные светские оплошности и низвели до их истинной значимости, крайне мелкой. Вал звуков поднялся навстречу звону колокола. Захлопали двери, затопали по коридору ноги, всюду раздавались громкие голоса, кто-то вспомнил, что Томас все еще спит, и после того как брошенные из ближайших окон предметы не смогли ее разбудить, по ее запертой двери была выбита барабанная дробь. А потом послышался шум ног, бегущих по усыпанной гравием дорожке, которая пересекала поросший травой двор. И вот все больше ног бежит по гравию и все меньше по ступеням, журчание голосов нарастает, достигает кульминации и постепенно утихает. Когда шум почти затих в отдалении, по гравию протопала одинокая пара ног, а голос на бегу повторял с каждым шагом: «Черт, черт, черт, черт, черт». Очевидно, Томас, которая любит поспать.
Мисс Пим всей душой посочувствовала неизвестной Томас. Кровать – это чудесное место в любое время суток, но если человек от природы такой соня, что ни дикий трезвон колокола, ни визг соучениц не производят на него никакого впечатления, значит, пробуждение для него – пытка. Наверное, Томас валлийка. Все Томасы валлийцы. Кельты терпеть не могут рано подниматься. Бедная Томас. Бедная, бедная Томас. Люси захотелось найти для бедной Томас такую работу, где можно было бы спать до полудня.
Волны сна накатили на мисс Пим, и она стала погружаться в них глубже и глубже. «Интересно, – подумала она, – “отдает предпочтение молниям” – это комплимент? Наверное; вряд ли станут восхищаться приверженностью к булавкам, так что может быть…»
Она заснула.
Глава вторая
Два казака шести футов роста били ее кнутами за то, что она упорствовала, желая пользоваться старомодными булавками, тогда как прогресс предписывал молнии. Кровь уже текла у нее по спине, но тут она проснулась и обнаружила, что единственное, что подвергается насилию, – это ее слух. Снова гремел колокол. Люси пробормотала нечто нецивилизованное и некультурное и села. Нет, определенно, ни на минуту после ланча она не останется. В два сорок один есть поезд из Ларборо, и этим поездом она и уедет. Прощальные слова сказаны, долг дружбе отдан. Душа мисс Пим наполнилась радостным предвкушением бегства. На платформе она купит полуфунтовую коробку шоколада в знак избавления. Потом, в конце недели, это отразится на шкале весов в ванной комнате, но не все ли равно?
Мысль о весах напомнила мисс Пим о цивилизованной и культурной потребности принять ванну. Генриетта извинилась, что до ванных комнат преподавателей так далеко; заодно она извинилась, что помещает гостью в студенческий блок, но к фрекен Густавсен приехала из Швеции мать и заняла единственную преподавательскую комнату для гостей; она собиралась оставаться в Лейсе еще несколько недель, пока не увидит и не сможет оценить результаты работы своей дочери на ежегодных показательных выступлениях, которые состоятся в начале следующего месяца. Люси сомневалась, что при ее способности ориентироваться на местности – весьма слабой, по мнению друзей, – она сможет отыскать эту ванную комнату. А бродить, крадучись, по широким пустым коридорам, да еще нечаянно попадать (все может быть) в учебные аудитории – это ужасно. И еще ужаснее блуждать в коридорах, переполненных девушками, поднявшимися на заре, и искать место, где можно осуществить свое запоздалое омовение.
Мысль Люси всегда работала именно так. Ей недостаточно было представить себе одну сторону ужасного обстоятельства, обязательно нужно было вообразить и противоположную тоже. Люси так долго сидела, обдумывая соперничающие между собой аспекты ужасных обстоятельств и наслаждаясь ничегонеделанием, что колокол успел зазвонить еще раз, еще одна волна топочущих ног и кричащих голосов накатила – и омыла тишину утра. Люси поглядела на часы. Было половина восьмого. Она уже решила было вести себя нецивилизованно и некультурно и «ходить грязнулей», как называла это ее приходящая прислуга; в конце концов, что такое это погружение в воду, как не современная причуда, и если Карл Второй допускал, чтобы от него не очень хорошо пахло, то кто она такая, она, простолюдинка, чтобы скрипеть зубами от того, что не приняла ванну? Но тут раздался стук в дверь. Спасение явилось. О, радость, о, счастье, ее дурацкому положению пришел конец.
– Войдите, – откликнулась она радостно, как Робинзон Крузо, приветствующий высаживающуюся на остров компанию.
Конечно, Генриетта пришла пожелать Люси доброго утра. Как глупо было с ее стороны не подумать об этом. В душе она все еще оставалась зайчонком, который не ожидал, что Генриетта вспомнит и побеспокоится о нем. Право, ей, Люси, нужно культивировать в себе образ мышления, более подходящий знаменитости. Может быть, если она будет причесываться по-другому или повторять двадцать раз на дню по системе Куэ…
– Войдите!
Но это была не Генриетта. Это была богиня.
Богиня с золотыми волосами, в ярко-голубой льняной тунике, с синими как море глазами и дивными, достойными самой сильной зависти ногами. Люси всегда обращала внимание на ноги других женщин, потому что ее собственные были для нее источником горькой досады.
– О, простите, – проговорила богиня. – Я забыла, что вы, может быть, еще не встали. Мы здесь поднимаемся ужасно рано.
Люси подумала, что со стороны этого небесного создания было очень мило принять на себя вину за ее, Люси, леность.
– Прошу прощения, что помешала вам одеваться.
Взгляд синих глаз остановился на домашних туфлях без задников, которые стояли посреди комнаты, и так и замер в восхищении. Это были голубые шелковые туфельки, очень женственные и воздушные, свидетельствующие об изрядной расточительности. Совершенно неотразимая безделица.
– Боюсь, они выглядят глупо, – сказала Люси.
– Если бы вы только знали, мисс Пим, что это значит – увидеть предмет, который не является строго утилитарным! – А потом добавила, как будто сама попытка отстраниться от дела возвращала ее к нему: – Моя фамилия Нэш. Я староста Старших. Я пришла сказать, что Старшие почтут за большую честь, если вы завтра придете к нам на чашку чаю. По воскресеньям мы пьем чай в саду. Это привилегия Старших. Там очень приятно, особенно в летний день, и мы действительно будем очень вас ждать. – И она с искренней благожелательностью улыбнулась мисс Пим.
Люси объяснила, что завтра ее здесь не будет, что она уезжает сегодня после полудня.
– О нет! – запротестовала девушка, и неподдельное чувство, прозвучавшее в ее голосе, вызвало у Люси прилив радости. – Нет, мисс Пим, не уезжайте! Вы даже не представляете, какое вы для нас неожиданное счастье. Так редко приезжает кто-нибудь – кто-нибудь интересный. Это место очень похоже на монастырь. Нам всем приходится так много работать, и у нас не остается времени думать о внешнем мире, и это последний семестр для нас, Старших, и все так мрачно, и все так замкнуты на самих себя: выпускные экзамены, и показательные выступления, и какие найдутся места для работы, и все такое, – мы все до смерти устали и уже не понимаем, что хорошо, а что плохо. И тут приезжаете вы – посланец внешнего мира, цивилизованное существо. – Полусмеясь-полусерьезно она прервала свой монолог. – Вы не можете нас покинуть.
– Но лектор из «внешнего мира» приезжает к вам каждую пятницу, – возразила Люси. Впервые в жизни ей довелось оказаться для кого-то неожиданным счастьем, и она решила, что не должна принимать слепо на веру это определение. Ей вовсе не нравилось, что благодарное чувство переполняло ее и грозило перелиться через край.
Мисс Нэш объяснила ясно, четко и с изрядной долей яда в голосе, что последними тремя лекторами были восьмидесятилетний старец, рассказывавший об ассирийских надписях, чех из Центральной Европы и костоправ, лечивший сколиоз.
– Что такое сколиоз? – спросила Люси.
– Искривление позвоночника. И если вы думаете, что кто-то из них привнес хоть чуточку света и тепла в атмосферу колледжа, вы ошибаетесь. Считается, что лекции должны поддерживать наше общение с внешним миром, но осмелюсь быть и честной, и нескромной, – она явно наслаждалась и той и другой ролью, – платье, которое было на вас вчера вечером, принесло нам больше пользы, чем все прослушанные лекции.
Когда ее книга только стала бестселлером, Люси истратила действительно большую сумму на это платье, и оно все еще оставалось ее любимым. Она надела его, чтобы произвести впечатление на Генриетту. Благодарное чувство готово было перелиться через край.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сломить здравый смысл Люси. В ее памяти крепко засели бобы. И отсутствие ночного столика. И отсутствие звонка для вызова прислуги. И вечно призывающий к чему-то трезвон колокола. Нет, она уедет из Ларборо поездом в два сорок один, даже если все студентки колледжа физического воспитания в Лейсе улягутся у нее на пути и будут громко рыдать. Люси пробормотала что-то о назначенных встречах – давая возможность сделать вывод, что ее календарь распух от записей, о том, на каких собраниях она непременно должна присутствовать, где ее ждут, – и попросила мисс Нэш пока что проводить ее в преподавательскую ванную.
– Мне бы не хотелось блуждать по коридорам, а звонка, чтобы вызвать кого-нибудь, я не нашла.
Посочувствовав Люси, лишенной необходимых услуг – «Элизе, конечно, следовало бы помнить, что в этих комнатах нет звонков, и самой прийти к вам; Элиза – это горничная, которая обслуживает преподавателей», – мисс Нэш предложила мисс Пим воспользоваться студенческими ванными комнатами – они гораздо ближе.
– Конечно, это «кубики», я хочу сказать, у них перегородки не до потолка и пол из обыкновенного бетона, а в преподавательских – бирюзовый мозаичный, с рисунками в хорошем вкусе – дельфины например. Но вода та же самая.
Мисс Пим с радостью согласилась воспользоваться студенческими ванными комнатами, и, пока она собирала купальные принадлежности, ее голова, оставшаяся незанятой, обдумывала отсутствие у мисс Нэш приличествующего студентке почтения к преподавателям. Это чем-то напомнило мисс Пим Мэри Бэрхарроу. Четвертый класс состоял из кротких созданий, восторженно трудившихся на ниве неправильных французских глаголов, но Мэри Бэрхарроу, оставаясь старательной и приветливой, обращалась с учительницей французского языка как с равной, и это происходило потому, что отец Мэри был «почти миллионер». Мисс Пим сделала вывод, что во «внешнем мире» – странно, как быстро начинаешь применять клондайкские[5 - Мисс Пим имеет в виду отношение жителей Клондайка к остальной Америке (ср.: «материк» в разговоре жителей Камчатки о России).] термины к колледжу – у мисс Нэш, так явно обладавшей присущими Мэри Бэрхарроу очарованием, легкостью и чувством равенства в обращении с людьми, вероятно, тоже есть отец, подобный отцу Мэри Бэрхарроу. Люси еще предстояло узнать, что именно этот факт отмечался в первую очередь при упоминании фамилии Нэш. «Родители Памелы Нэш очень богаты. Знаете, у них есть дворецкий». Никто никогда не забывал упомянуть дворецкого. Для дочерей борющихся за существование докторов, адвокатов, бизнесменов и фермеров дворецкий был такой же экзотикой, как раб-негр.
– Разве вам не надо быть на уроке? – спросила мисс Пим, справедливо полагая, что тишина в залитых солнцем коридорах – это знак того, что девушек поглотили другие помещения. – Наверное, если вас будят в половине шестого, занятия идут и до завтрака?
– О да. Летом у нас до завтрака два урока, один активный, другой пассивный. Практика по теннису и кинезиология, или что-нибудь вроде этого.
– Что это такое – кин… как там дальше?
– Кинезиология? – Мисс Нэш задумалась на минуту над тем, как бы получше сообщить несведущему человеку новые сведения, а потом заговорила, словно цитируя воображаемую книгу: – «Я снимаю с высокой полки кувшин с ручкой; опишите работу, проделанную мышцами». – И когда мисс Пим кивнула, показав, что поняла, продолжила: – Но зимой мы встаем, как все, в половине восьмого. И в это время у нас обычно идут занятия по дополнительным предметам: здравоохранение, деятельность Красного Креста и тому подобное. Но теперь с этим покончено и нам разрешают в эти часы готовиться к выпускным экзаменам, которые начнутся на следующей неделе. У нас очень мало времени на подготовку, так что мы этому рады.
– А разве вы не свободны после чая?
Мисс Нэш почти рассмеялась:
– Что вы! С четырех до шести вечера – клиника. Знаете, приходящие пациенты. Все, что угодно, от плоскостопия до перелома бедра. А с половины седьмого до восьми – танцы. Балет, не народные. Народные у нас утром, они считаются упражнением, не искусством. А ужин кончается около полдевятого, так что к тому времени, когда мы могли бы самостоятельно заниматься, мы уже совсем сонные, и обычно это все превращается в борьбу между желанием спать и попытками одолеть собственное невежество.
Свернув в длинный коридор, ведущий к лестнице, они почти столкнулись с маленькой фигуркой, бегущей со всех ног; одной рукой она прижимала к себе череп и грудную клетку скелета, другой – таз и ноги.
– Зачем вы взяли Джорджа, Моррис? – спросила мисс Нэш, когда они поравнялись с девочкой.
– Ой, пожалуйста, не задерживайте меня, Бо[6 - Бо (фр. Beaux) – красивый, прекрасный. В сочетании с фамилией «Бо Нэш» прозвище девушки напоминает об изящном распорядителе танцев XVIII столетия на модном английском курорте Бате.], – тяжело дыша, проговорила та, крепче прижимая к правому боку свою странную ношу и продолжая стремительно нестись вперед, – и, пожалуйста, забудьте, что вы меня видели. То есть что вы видели Джорджа. Я хотела проснуться пораньше и отнести его обратно в лекционный зал до первого колокола, но проспала.
– Вы всю ночь просидели с Джорджем?
– Нет, только часов до двух. Я…
– А как же со светом?
– Ну, ясно же, завесила окно ковриком, – сердито ответила девочка, как человек, вынужденный объяснять очевидное.
– Славная атмосферка для июньского вечера!
– Было как в аду, – призналась Моррис. – Но это был правда единственный способ вызубрить связки, так что, пожалуйста, Бо, забудьте немедленно, что вы видели меня. Я оттащу его обратно на место, прежде чем учителя спустятся к завтраку.
– Вряд ли вам это удастся. Вы обязательно на кого-нибудь наткнетесь.
– О, пожалуйста, не пугайте меня. Я и так ужасно боюсь. И потом, я не знаю, смогу ли вспомнить, как его сцепить.
Тишину разорвал звон колокола. Такой же настойчивый, как и тот, что разбудил их. Темная головка исчезла при первых же звуках, и сквозь шум и звон можно было расслышать только голос Дэйкерс, исполненный жалобного отчаяния. Деловые заботы дня смели допущенные светские оплошности и низвели до их истинной значимости, крайне мелкой. Вал звуков поднялся навстречу звону колокола. Захлопали двери, затопали по коридору ноги, всюду раздавались громкие голоса, кто-то вспомнил, что Томас все еще спит, и после того как брошенные из ближайших окон предметы не смогли ее разбудить, по ее запертой двери была выбита барабанная дробь. А потом послышался шум ног, бегущих по усыпанной гравием дорожке, которая пересекала поросший травой двор. И вот все больше ног бежит по гравию и все меньше по ступеням, журчание голосов нарастает, достигает кульминации и постепенно утихает. Когда шум почти затих в отдалении, по гравию протопала одинокая пара ног, а голос на бегу повторял с каждым шагом: «Черт, черт, черт, черт, черт». Очевидно, Томас, которая любит поспать.
Мисс Пим всей душой посочувствовала неизвестной Томас. Кровать – это чудесное место в любое время суток, но если человек от природы такой соня, что ни дикий трезвон колокола, ни визг соучениц не производят на него никакого впечатления, значит, пробуждение для него – пытка. Наверное, Томас валлийка. Все Томасы валлийцы. Кельты терпеть не могут рано подниматься. Бедная Томас. Бедная, бедная Томас. Люси захотелось найти для бедной Томас такую работу, где можно было бы спать до полудня.
Волны сна накатили на мисс Пим, и она стала погружаться в них глубже и глубже. «Интересно, – подумала она, – “отдает предпочтение молниям” – это комплимент? Наверное; вряд ли станут восхищаться приверженностью к булавкам, так что может быть…»
Она заснула.
Глава вторая
Два казака шести футов роста били ее кнутами за то, что она упорствовала, желая пользоваться старомодными булавками, тогда как прогресс предписывал молнии. Кровь уже текла у нее по спине, но тут она проснулась и обнаружила, что единственное, что подвергается насилию, – это ее слух. Снова гремел колокол. Люси пробормотала нечто нецивилизованное и некультурное и села. Нет, определенно, ни на минуту после ланча она не останется. В два сорок один есть поезд из Ларборо, и этим поездом она и уедет. Прощальные слова сказаны, долг дружбе отдан. Душа мисс Пим наполнилась радостным предвкушением бегства. На платформе она купит полуфунтовую коробку шоколада в знак избавления. Потом, в конце недели, это отразится на шкале весов в ванной комнате, но не все ли равно?
Мысль о весах напомнила мисс Пим о цивилизованной и культурной потребности принять ванну. Генриетта извинилась, что до ванных комнат преподавателей так далеко; заодно она извинилась, что помещает гостью в студенческий блок, но к фрекен Густавсен приехала из Швеции мать и заняла единственную преподавательскую комнату для гостей; она собиралась оставаться в Лейсе еще несколько недель, пока не увидит и не сможет оценить результаты работы своей дочери на ежегодных показательных выступлениях, которые состоятся в начале следующего месяца. Люси сомневалась, что при ее способности ориентироваться на местности – весьма слабой, по мнению друзей, – она сможет отыскать эту ванную комнату. А бродить, крадучись, по широким пустым коридорам, да еще нечаянно попадать (все может быть) в учебные аудитории – это ужасно. И еще ужаснее блуждать в коридорах, переполненных девушками, поднявшимися на заре, и искать место, где можно осуществить свое запоздалое омовение.
Мысль Люси всегда работала именно так. Ей недостаточно было представить себе одну сторону ужасного обстоятельства, обязательно нужно было вообразить и противоположную тоже. Люси так долго сидела, обдумывая соперничающие между собой аспекты ужасных обстоятельств и наслаждаясь ничегонеделанием, что колокол успел зазвонить еще раз, еще одна волна топочущих ног и кричащих голосов накатила – и омыла тишину утра. Люси поглядела на часы. Было половина восьмого. Она уже решила было вести себя нецивилизованно и некультурно и «ходить грязнулей», как называла это ее приходящая прислуга; в конце концов, что такое это погружение в воду, как не современная причуда, и если Карл Второй допускал, чтобы от него не очень хорошо пахло, то кто она такая, она, простолюдинка, чтобы скрипеть зубами от того, что не приняла ванну? Но тут раздался стук в дверь. Спасение явилось. О, радость, о, счастье, ее дурацкому положению пришел конец.
– Войдите, – откликнулась она радостно, как Робинзон Крузо, приветствующий высаживающуюся на остров компанию.
Конечно, Генриетта пришла пожелать Люси доброго утра. Как глупо было с ее стороны не подумать об этом. В душе она все еще оставалась зайчонком, который не ожидал, что Генриетта вспомнит и побеспокоится о нем. Право, ей, Люси, нужно культивировать в себе образ мышления, более подходящий знаменитости. Может быть, если она будет причесываться по-другому или повторять двадцать раз на дню по системе Куэ…
– Войдите!
Но это была не Генриетта. Это была богиня.
Богиня с золотыми волосами, в ярко-голубой льняной тунике, с синими как море глазами и дивными, достойными самой сильной зависти ногами. Люси всегда обращала внимание на ноги других женщин, потому что ее собственные были для нее источником горькой досады.
– О, простите, – проговорила богиня. – Я забыла, что вы, может быть, еще не встали. Мы здесь поднимаемся ужасно рано.
Люси подумала, что со стороны этого небесного создания было очень мило принять на себя вину за ее, Люси, леность.
– Прошу прощения, что помешала вам одеваться.
Взгляд синих глаз остановился на домашних туфлях без задников, которые стояли посреди комнаты, и так и замер в восхищении. Это были голубые шелковые туфельки, очень женственные и воздушные, свидетельствующие об изрядной расточительности. Совершенно неотразимая безделица.
– Боюсь, они выглядят глупо, – сказала Люси.
– Если бы вы только знали, мисс Пим, что это значит – увидеть предмет, который не является строго утилитарным! – А потом добавила, как будто сама попытка отстраниться от дела возвращала ее к нему: – Моя фамилия Нэш. Я староста Старших. Я пришла сказать, что Старшие почтут за большую честь, если вы завтра придете к нам на чашку чаю. По воскресеньям мы пьем чай в саду. Это привилегия Старших. Там очень приятно, особенно в летний день, и мы действительно будем очень вас ждать. – И она с искренней благожелательностью улыбнулась мисс Пим.
Люси объяснила, что завтра ее здесь не будет, что она уезжает сегодня после полудня.
– О нет! – запротестовала девушка, и неподдельное чувство, прозвучавшее в ее голосе, вызвало у Люси прилив радости. – Нет, мисс Пим, не уезжайте! Вы даже не представляете, какое вы для нас неожиданное счастье. Так редко приезжает кто-нибудь – кто-нибудь интересный. Это место очень похоже на монастырь. Нам всем приходится так много работать, и у нас не остается времени думать о внешнем мире, и это последний семестр для нас, Старших, и все так мрачно, и все так замкнуты на самих себя: выпускные экзамены, и показательные выступления, и какие найдутся места для работы, и все такое, – мы все до смерти устали и уже не понимаем, что хорошо, а что плохо. И тут приезжаете вы – посланец внешнего мира, цивилизованное существо. – Полусмеясь-полусерьезно она прервала свой монолог. – Вы не можете нас покинуть.
– Но лектор из «внешнего мира» приезжает к вам каждую пятницу, – возразила Люси. Впервые в жизни ей довелось оказаться для кого-то неожиданным счастьем, и она решила, что не должна принимать слепо на веру это определение. Ей вовсе не нравилось, что благодарное чувство переполняло ее и грозило перелиться через край.
Мисс Нэш объяснила ясно, четко и с изрядной долей яда в голосе, что последними тремя лекторами были восьмидесятилетний старец, рассказывавший об ассирийских надписях, чех из Центральной Европы и костоправ, лечивший сколиоз.
– Что такое сколиоз? – спросила Люси.
– Искривление позвоночника. И если вы думаете, что кто-то из них привнес хоть чуточку света и тепла в атмосферу колледжа, вы ошибаетесь. Считается, что лекции должны поддерживать наше общение с внешним миром, но осмелюсь быть и честной, и нескромной, – она явно наслаждалась и той и другой ролью, – платье, которое было на вас вчера вечером, принесло нам больше пользы, чем все прослушанные лекции.
Когда ее книга только стала бестселлером, Люси истратила действительно большую сумму на это платье, и оно все еще оставалось ее любимым. Она надела его, чтобы произвести впечатление на Генриетту. Благодарное чувство готово было перелиться через край.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сломить здравый смысл Люси. В ее памяти крепко засели бобы. И отсутствие ночного столика. И отсутствие звонка для вызова прислуги. И вечно призывающий к чему-то трезвон колокола. Нет, она уедет из Ларборо поездом в два сорок один, даже если все студентки колледжа физического воспитания в Лейсе улягутся у нее на пути и будут громко рыдать. Люси пробормотала что-то о назначенных встречах – давая возможность сделать вывод, что ее календарь распух от записей, о том, на каких собраниях она непременно должна присутствовать, где ее ждут, – и попросила мисс Нэш пока что проводить ее в преподавательскую ванную.
– Мне бы не хотелось блуждать по коридорам, а звонка, чтобы вызвать кого-нибудь, я не нашла.
Посочувствовав Люси, лишенной необходимых услуг – «Элизе, конечно, следовало бы помнить, что в этих комнатах нет звонков, и самой прийти к вам; Элиза – это горничная, которая обслуживает преподавателей», – мисс Нэш предложила мисс Пим воспользоваться студенческими ванными комнатами – они гораздо ближе.
– Конечно, это «кубики», я хочу сказать, у них перегородки не до потолка и пол из обыкновенного бетона, а в преподавательских – бирюзовый мозаичный, с рисунками в хорошем вкусе – дельфины например. Но вода та же самая.
Мисс Пим с радостью согласилась воспользоваться студенческими ванными комнатами, и, пока она собирала купальные принадлежности, ее голова, оставшаяся незанятой, обдумывала отсутствие у мисс Нэш приличествующего студентке почтения к преподавателям. Это чем-то напомнило мисс Пим Мэри Бэрхарроу. Четвертый класс состоял из кротких созданий, восторженно трудившихся на ниве неправильных французских глаголов, но Мэри Бэрхарроу, оставаясь старательной и приветливой, обращалась с учительницей французского языка как с равной, и это происходило потому, что отец Мэри был «почти миллионер». Мисс Пим сделала вывод, что во «внешнем мире» – странно, как быстро начинаешь применять клондайкские[5 - Мисс Пим имеет в виду отношение жителей Клондайка к остальной Америке (ср.: «материк» в разговоре жителей Камчатки о России).] термины к колледжу – у мисс Нэш, так явно обладавшей присущими Мэри Бэрхарроу очарованием, легкостью и чувством равенства в обращении с людьми, вероятно, тоже есть отец, подобный отцу Мэри Бэрхарроу. Люси еще предстояло узнать, что именно этот факт отмечался в первую очередь при упоминании фамилии Нэш. «Родители Памелы Нэш очень богаты. Знаете, у них есть дворецкий». Никто никогда не забывал упомянуть дворецкого. Для дочерей борющихся за существование докторов, адвокатов, бизнесменов и фермеров дворецкий был такой же экзотикой, как раб-негр.
– Разве вам не надо быть на уроке? – спросила мисс Пим, справедливо полагая, что тишина в залитых солнцем коридорах – это знак того, что девушек поглотили другие помещения. – Наверное, если вас будят в половине шестого, занятия идут и до завтрака?
– О да. Летом у нас до завтрака два урока, один активный, другой пассивный. Практика по теннису и кинезиология, или что-нибудь вроде этого.
– Что это такое – кин… как там дальше?
– Кинезиология? – Мисс Нэш задумалась на минуту над тем, как бы получше сообщить несведущему человеку новые сведения, а потом заговорила, словно цитируя воображаемую книгу: – «Я снимаю с высокой полки кувшин с ручкой; опишите работу, проделанную мышцами». – И когда мисс Пим кивнула, показав, что поняла, продолжила: – Но зимой мы встаем, как все, в половине восьмого. И в это время у нас обычно идут занятия по дополнительным предметам: здравоохранение, деятельность Красного Креста и тому подобное. Но теперь с этим покончено и нам разрешают в эти часы готовиться к выпускным экзаменам, которые начнутся на следующей неделе. У нас очень мало времени на подготовку, так что мы этому рады.
– А разве вы не свободны после чая?
Мисс Нэш почти рассмеялась:
– Что вы! С четырех до шести вечера – клиника. Знаете, приходящие пациенты. Все, что угодно, от плоскостопия до перелома бедра. А с половины седьмого до восьми – танцы. Балет, не народные. Народные у нас утром, они считаются упражнением, не искусством. А ужин кончается около полдевятого, так что к тому времени, когда мы могли бы самостоятельно заниматься, мы уже совсем сонные, и обычно это все превращается в борьбу между желанием спать и попытками одолеть собственное невежество.
Свернув в длинный коридор, ведущий к лестнице, они почти столкнулись с маленькой фигуркой, бегущей со всех ног; одной рукой она прижимала к себе череп и грудную клетку скелета, другой – таз и ноги.
– Зачем вы взяли Джорджа, Моррис? – спросила мисс Нэш, когда они поравнялись с девочкой.
– Ой, пожалуйста, не задерживайте меня, Бо[6 - Бо (фр. Beaux) – красивый, прекрасный. В сочетании с фамилией «Бо Нэш» прозвище девушки напоминает об изящном распорядителе танцев XVIII столетия на модном английском курорте Бате.], – тяжело дыша, проговорила та, крепче прижимая к правому боку свою странную ношу и продолжая стремительно нестись вперед, – и, пожалуйста, забудьте, что вы меня видели. То есть что вы видели Джорджа. Я хотела проснуться пораньше и отнести его обратно в лекционный зал до первого колокола, но проспала.
– Вы всю ночь просидели с Джорджем?
– Нет, только часов до двух. Я…
– А как же со светом?
– Ну, ясно же, завесила окно ковриком, – сердито ответила девочка, как человек, вынужденный объяснять очевидное.
– Славная атмосферка для июньского вечера!
– Было как в аду, – призналась Моррис. – Но это был правда единственный способ вызубрить связки, так что, пожалуйста, Бо, забудьте немедленно, что вы видели меня. Я оттащу его обратно на место, прежде чем учителя спустятся к завтраку.
– Вряд ли вам это удастся. Вы обязательно на кого-нибудь наткнетесь.
– О, пожалуйста, не пугайте меня. Я и так ужасно боюсь. И потом, я не знаю, смогу ли вспомнить, как его сцепить.