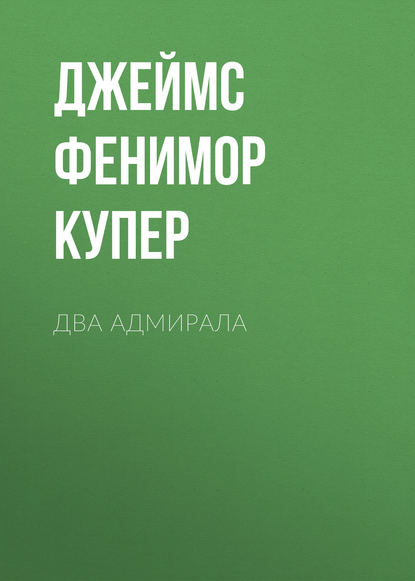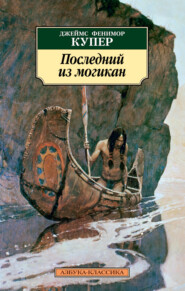По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два адмирала
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Таков уж свет, милая Милдред, и мы, старые моряки, волей или неволей часто это испытываем! Но я решился говорить правду, даже под опасением потерять навсегда вашу благосклонность, и потому скажу вам еще раз, что я никогда не встречал человека, который с первого раза произвел бы на меня такое неприятное впечатление, как господин Вичекомб.
При этих словах Милдред невольно и как бы бессознательно освободила свою руку из рук Блюуатера и, казалось, была поражена при мысли о той откровенности с чужим человеком, которая позволяла ему так резко опорочивать ее испытанного друга.
– Мне очень жаль, сэр, – сказала она с заметной холодностью, – что у вас такое невыгодное мнение о человеке, который заслужил здесь всеобщую любовь и уважение.
– Вижу, что мне приходится делить участь, общую всем незваным советникам, но я виню себя только за свою излишнюю смелость, милая Милдред. Я не люблю господина Вичекомба, этого вашего поклонника. Что же касается до всеобщего уважения, о котором вы говорите, то оно так естественно в людях, видящих в нем богатого наследника, что я его ровно ни во что ни ставлю.
– Богатого наследника! – повторила Милдред с обыкновенной приятностью своего голоса и снова взяла руку адмирала, которую за минуту так неожиданно бросила. – Уж не говорите ли вы о господине Томе Вичекомбе, племяннике сэра Вичерли?
– О ком же другом я мог говорить? Разве не он был сегодня целый день вашей тенью? Его внимание к вам так явно, что он, кажется, вовсе не считает нужным скрывать того, что ищет вашей руки.
– Неужели это так сильно вас поразило, сэр? Признаюсь вам, я на это смотрю совсем другими глазами. Мы так хорошо знакомы в Вичекомб-Холле, что нам кажется, будто вся эта фамилия должна быть одинаково к нам расположена с сэром Вичерли. Но справедливо ли ваше предположение или нет, а господин Том Вичекомб никогда не был и не будет моей симпатией.
– Мне чрезвычайно приятно это слышать! Вот его однофамилец, наш молодой лейтенант, – доблестный и благороднейший молодой человек, какого мне когда-либо случалось видеть! Если бы вы были моей дочерью, Милдред, я так же охотно отдал бы вас замуж за этого молодого человека, как оставил бы ему свое состояние, если бы он был моим сыном.
Милдред улыбнулась; хотя лукавое выражение ее лица и было отуманено печалью, но она достаточно владела собой, чтобы скрыть свои чувства.
– Я могу утвердительно сказать, сэр, – отвечала она, – что с вашим знанием света вы как нельзя вернее оценили обоих этих молодых людей. Впрочем, господин Том Вичекомб, несмотря на то, что вы слышали сегодня от моего батюшки, вовсе не способен серьезно обо мне думать. Я вовсе не гожусь в леди Вичекомб, и, как мне кажется, у меня достало бы столько благоразумия, чтобы отклонить от себя подобную честь, если бы мне ее и предложили.
– Но оставим этот разговор, потому что все мои предосторожности были совершенно излишни. Кажется, с этим господином Томом случилось здесь, на утесах, какое-то необыкновенное происшествие. Мне говорил о нем сэр Джервез, хотя и довольно неясно.
Милдред объяснила Блюуатеру его ошибку и потом довольно подробно рассказала ему об опасности, в которой находился лейтенант, упав с утеса, и о средствах, которые были приняты для его спасения.
– Все это очень хорошо и как нельзя лучше показывает неустрашимость и мужество господина Вичекомба, – отвечал контр-адмирал довольно серьезно, – но, признаюсь вам, гораздо было бы лучше, если бы этого вовсе не случалось. Люди, которые по-пустому рискуют своей жизнью, вряд ли могут иметь много внутренних достоинств. Другое дело, если бы он имел на это какие-нибудь уважительные причины.
– О, он имел причину, сэр; он слишком далек от того, чтобы делать подобные безрассудства без особенной цели.
– Позвольте же мне узнать, в чем заключалась эта цель? Вероятно, она должна быть слишком уважительна, если потребовала такого отважного поступка.
Милдред была в большом затруднении, что отвечать адмиралу. Сердце ясно говорило ей причину, побудившую Вичерли взобраться на утесы, но она ни за что не решилась бы объяснить ее своему собеседнику, хотя в душе и чувствовала неизъяснимое удовольствие, происходившее вследствие сознания, что не кто иной, как она сама, была виновницей этого отважного поступка.
– Цветы, которые растут в южной части этих утесов, адмирал Блюуатер, чрезвычайно душисты и красивы, – сказала она. – Услышав о них от матушки и меня и узнав, как мы их любим, он отважился взобраться за ними на утесы, не в этом месте, где они так отвесны, но в другом, где с небольшой осторожностью можно легко ходить; забывшись, он увлекся дальше того, сколько позволяло благоразумие – и несчастье случилось. Несмотря на это, я вовсе не считаю господина Вичерли Вичекомба безрассудным.
– Он имеет прелестнейшего и красноречивейшего адвоката, милая Милдред, – отвечал Блюуатер, улыбаясь, хотя выражение лица его и было печально, – и потому совершенно оправдан.
Милдред старалась смеяться, думая этим скрыть свои собственные чувства, но ее слушатель был слишком опытен и проницателен, и, следовательно, его не легко было обмануть. На обратном пути к дому Милдред он был весьма неразговорчив, и когда они вошли в комнаты, Милдред заметила при свете свечи, что его лицо все еще было печально. Было уже далеко за полночь, когда он распростился с миссис Доттон и ее дочерью, обещая, до отплытия эскадры, еще увидеться с ними. Хотя и было уже очень поздно, но ни сама госпожа Доттон, ни Милдред не чувствовали расположения ко сну; они вышли снова на утес, желая насладиться приятной прохладой ночи и очаровательным видом, который расстилался перед их глазами.
Спустя несколько минут из-за утесов показалась восьмивесельная шлюпка, которая быстро летела к судну, на гафеле и топе бизань-мачты которого виднелись фонари, а на крюйсбом-брам-стеньге развевался маленький контр-адмиральский флаг. Ближайшее судно к берегу был куттер, и когда шлюпка подошла к нему довольно близко, с палубы его раздался довольно громкий оклик: «Boat ahoy?» На это послышался также довольно громкий ответ самого Блюуатера: «Контр-адмиральский флаг!» Затем последовала снова глубокая тишина среди тихих и мерных ударов весел. Она прерывалась только с новым приближением шлюпки к судну, и тогда снова раздавались оклик и ответ, и снова воцарялось во всей окрестности безмолвие ночи. Наконец, шлюпка подошла к корме «Цезаря» – контр-адмиральского корабля, и в последний раз раздался оклик. Затем последовало на судне маленькое движение, и когда удары весел прекратились, фонари, зажженные на этом судне, были погашены.
Когда все смолкло, миссис Доттон и Милдред возвратились домой и скоро забылись крепким сном после этого тревожного и, по своим последствиям, более, чем им казалось, важного для них дня.
Глава XI
Когда я размышляю о жизни, я вижу, что она только обман: но предаваясь сумасбродным надеждам, люди любят быть обманутыми. Полные уверенности, они льстят себе, что будущее их вознаградит: но будущее еще хуже, чем настоящее.
Драйден
Хотя адмирал Блюуатер и уделял обыкновенно сну весьма небольшое время, однако, он не мог назваться, как говорят французы, ранней птичкой. На военных судах есть особый утренний час, мытье палуб. Он бывает большей частью при восходе солнца. Этот час самый несносный на судне и для ленивцев[10 - Так называют в Англии морских солдат матросы.], и для свободных от службы офицеров, которые всегда проводят его, сидя на решетинах люков.
Адмирал Блюуатер только что открыл глаза, когда первое ведро воды было вылито на палубу; он долго еще лежал в том приятном забытье, которому так охотно предаются моряки, достигнувшие звания командиров.
В эту сладкую минуту в каюте показалось свежее лицо мичмана, который, убедившись, что его начальник не спит, сказал:
– Записка от сэра Джервеза, адмирал Блюуатер!
– Очень хорошо, сэр, – отвечал тот, принимая записку. – Какой теперь ветер, лорд Джоффрей?
– Ирландский ураган, сэр; впрочем, все в порядке.
– А что прилив?
– Еще не начинался, сэр, теперь мертвая вода, или, лучше сказать, только что начался отлив.
– Ступайте наверх, милорд, и посмотрите, повернул ли «Дувр» на левый борт, чтобы подойти к нашей корме.
– Слушаю, сэр! – И мичман Джоффрей, младший сын одного из славнейших домов Англии, побежал по трапу исполнить поручение начальника.
Между тем Блюуатер протянул руку и отдернул занавеску на своем маленьком окне; потом достал очки и принялся читать записку сэра Джервеза. Это раннее послание заключало в себе следующее:
«Дорогой Блюуатер!
Я пишу тебе эти строки в кровати такой величины, что в ней, я думаю, легко мог бы маневрировать 90 пуш. корабль. Половину ночи я пролежал поперек своего судна, сам того не зная. Маграт и другие доктора провели всю ночь у сэра Вичерли, но его голове все еще не лучше. Кажется, доброму старику не придется более встать с постели. Приезжай на берег к нам завтракать, и мы посоветуемся с тобой – остаться ли нам при умирающем, или уехать.
Прощай. Окес
NB. Сегодня ночью случилось происшествие, которое в большой связи с завещанием сэра Вичерли и которое особенно заставляет меня желать видеть тебя сегодня утром, – чем скорее, тем лучше.
Ок.»
– Черт возьми! – думал Блюуатер. – Какое дело Окесу до завещания сэра Вичерли? Впрочем, это напоминает мне и о моем завещании, которое я недавно сделал. Гм!.. Что значат мои тридцать тысяч фунтов для человека с состоянием лорда Блюуатера? Не имея ни жены, ни детей, ни брата, ни сестры, я, кажется, могу распорядиться своими деньгами, как хочу. Окесу они не нужны: у него довольно своего состояния, очень довольно! Я со своими деньгами поступлю, как мне захочется. Я сам приобрел каждый шиллинг – и отдам их кому сам пожелаю.
Так рассуждал Блюуатер, лежа в своей кровати. При всем своем laissez aller он обладал той скоростью в исполнении задуманного предприятия, которой так часто отличаются моряки, когда они на что-нибудь решаются. Встать, одеться и оставить свою каюту – требовало для него весьма немного времени, и спустя не более двадцати минут после приведенного нами размышления адмирала, он уже сидел за письменным столиком. Первым его делом было: вынуть из потаенного ящика сложенную бумагу и прочитать ее. Это было завещание в пользу лорда Блюуатера. Контр-адмирал немедленно скопировал его verdatum et literatum, оставя чистые места для имени наследника, и назначил, как и в первый раз, исполнителем своей воли сэра Джервеза. Когда труд этот был окончен, он принялся заполнять чистые места. С минуту он чувствовал себя в искушении поместить везде имя претендента; но, засмеясь над этой глупостью, он написал во всех местах, где было нужно: Милдред Доттон, дочь Фрэнка Доттона, штурмана флота его величества. Потом, приложив свою печать и положив завещание чистой стороной кверху, позвонил маленьким серебряным колокольчиком, который всегда стоял у него под рукой. Дверь передней каюты отворилась, и в ней показалась голова часового.
– Позови кого-нибудь из мичманов, – сказал он. Дверь снова затворилась, и через минуту в комнате показалось улыбающееся лицо лорда Джоффрея.
– Нет ли, милорд, кого-нибудь на палубе, кроме вахтенных?
– Никого нет, сэр.
– В констанельской, верно, кто-нибудь да шевелится. Попросите сюда священника и капитана морских солдат, или первого лейтенанта, штурмана, или кого-нибудь из ленивцев.
Мичман вышел, и через две минуты в каюту вошли священник и казначей.
– Первый лейтенант, сэр, в переднем трюме; у морских офицеров ставни еще заперты, а штурман, как мне сказал смотритель констанельской, сидит за своим журналом. Впрочем, и этих двух, я думаю, будет достаточно, потому что они тоже не из последних ленивцев судна.
Лорд Джоффрей был второй сын третьего герцога Англии, и ему так же хорошо было это известно, как и всему экипажу «Цезаря». Он незаметно присвоил себе право говорить довольно свободно, что очень часто ободряло его, в присутствии начальников такие вещи, которые считались бы остротами только на кубрике или в констанельской. Привыкнувшие к его выходкам священник и казначей мало обратили внимание на его слова, а контр-адмирал даже и не слышал их. Как только он увидел вошедших, он подал им знак подойти к столу и показал сложенную бумагу.
– Всякий благоразумный человек, – сказал он, – а тем более всякий моряк и воин должен в военное время иметь завещание. Вот и мое, которое я только что сделал, а вот прежнее, которое я уничтожаю в вашем присутствии. Вероятно, вы не откажетесь быть моими свидетелями?