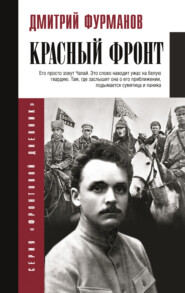По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего особенного… Мы, говоря откровенно, там, в зале, как на похоронах, а здесь давайте веселиться как следует, будем петь и декламировать, рассказывать что-нибудь, играть, – хотите, а?
Все вздохнули облегченно, увидев, что «особенного» и в самом деле нет тут ничего. Всем очень понравилась мысль о такой товарищеской вечеринке, и уж через минуту весело гуторили, смеялись, некоторые даже предложили натащить сюда чаю и бутербродов. Но большинство запротестовало:
– Увидят – все пропадет… Не стоит, ребята, не надо…
Чудров не слезал со стула, он все еще не знал, как начать.
– Слушай, Петровский, начни ты первый… я знаю, ты отлично говоришь.
– Петровский… Петровский! – зашумело все кругом.
Но Петровский отказывался.
– Да не ломайся, братец, что ты, словно в зале, – сострил Чудров.
Все весело рассмеялись. Петровского протолкнули к стулу, затащили, поставили:
– Говори!
– Да что же я буду? Я, право, ничего не знаю.
– Ну-ну!.. «Не знаю»… А помнишь: «Друг мой, брат мой»?
Петровский пробовал было еще раз отказаться, но, видя, как назойливо все пристают, начал:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!
Кто б ты ни был – не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно парят
Над омытой слезами землей…
Он начал довольно вяло, но чем дальше, все больше и больше воодушевлялся, а стоявшие притихли, замерли, и последний стих прозвучал уж в гробовом молчании…
Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой!
Кончил… Все молчали. Так молчали несколько секунд.
– Молодец!.. браво… браво!.. А ну, еще что-нибудь…
Но Петровский спрыгнул со стула и пропал в толпе. Снова вскочил Чудров, он был вполне доволен началом.
– Товарищи!.. – и остановился на мгновение. – Я буду вас звать «товарищи» – говорят, у студентов, в университетах, по-другому никак не зовут… Я вот что, товарищи, – продолжал он, торопясь, – вместе с нами… тут у меня один приятель… знакомый хороший… литератор… Он тоже бы хотел…
– Просим, просим! – загалдели дружно кругом.
– Он что-нибудь свое, – добавил Чудров.
– Просим!.. Отлично!..
Виктор медленно забрался на стул.
– Я скажу, товарищи, одно стихотворение, написал я его года четыре назад…
– Просим!.. просим!.. – продолжали шуметь кругом.
При свете двух крошечных свечушек лица у всех были как восковые, а глаза особенно, по-кошачьему, блестели. Полумрак и вся эта необычайная обстановка действовали возбуждающе, и самое простое, обычное слово приобретало здесь какой-то чарующий смысл. Настроение повышенное, все ждут чего-то исключительного. Виктор минуту постоял молча, ждал, пока уляжется волнение, поерошил волосы, оглянулся кругом.
– Тише… – сказал он чуть слышно.
Все примолкли, подумав, что он успокаивал шум, но Климов уже начал стихотворение:
Тише… Огромное чудо свершается —
В темном лесу великан пробуждается,
Вздыбилась грудь, как волна…
Он еще дремлет под шапкой мохнатою,
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Не пробудился от сна.
Полымем алым заря занимается,
Солнечный шар из-за гор подымается
Богатыря осветить;
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите – по лесу словно шептание —
Это его, великана, дыхание
Шутит-играет листвой.
Слышите звон и биенье неровное?
Это колотится сердце огромное —
Чует восход золотой…
Тише… Рядами сомкнитесь готовыми…
С ярким светильником, с думами новыми
Новая сила идет.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии,
И пропустите вперед…
Впечатление было неотразимое. Каждый понял, – кто этот Великан, что пробуждается к новой жизни. Но каждый понимал, конечно, по-особенному, по-своему. Декламировал Климов превосходно, – он сумел в слова свои вдохнуть такую силу, что образ дремучего Великана стоял как живой, и, когда говорил про шорохи лесные, про лесное шептание, – всем почудилось, будто кругом зашумело, зашептало, зашелестело…
Надя стояла впереди, у самого стула, и восторженными глазами смотрела Виктору в лицо, а когда он окончил и проходил мимо, она схватила его за руку, крепко ее сжала, шепнула:
– Как хорошо… как хорошо…
Виктор остановился, посмотрел в прекрасные темно-серые глаза Нади и тихо ей ответил:
– Не так хорошо, как верно… Это главное!