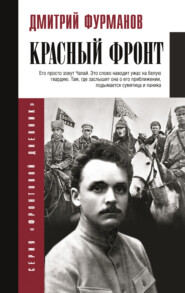По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Решили Виктора отрядить на работу с молодежью.
– Читать, что ли? – развернул Пащук исписанные бумажки. – Тут в самых что ни на есть кратких словах…
– Вали, – согласился Паценко.
Бондарчук сидел угрюмый и насупленный. Орехово-зуевский ткач, сын ткача, потомственный пролетарий, он с большим недоверием смотрел на всякие затеи в нерабочей среде, ни на грош не верил интеллигентам и уважал из них только немногих, которые все время были с ними вместе, которых изо дня в день он мог проверять на непосредственной работе. Поэтому не верил он и теперь, что с «девчонками» выйдет какой-нибудь толк.
– Придется, Витенька, во все тяжкие пускаться, – продолжал Пащук, – и вальсом кружить, и слова ласковые…
Климов молчал, улыбался, забористо тянул цигарку.
– Пащук, Пащук, к делу, – торопил его Паценко.
– Только покороче, знаешь ли, одну середку…
– Идет…
И пункт за пунктом передал Пащук содержание двух предполагавшихся листовок. В одной клеймилась предательская, фальшивая деятельность рады, указывалось, как она, прикрываясь красивыми лозунгами, идет покорно на поводу у монархиста Покровского и выполняет, по существу, самое черное, грязное дело… Говорилось о том, что представители станичников в раде околпачены, что наиболее сознательные из них уже поняли это и из рады бегут, что красные войска подступают к самому Краснодару и надо помочь им освободить Кубань от генеральского гнета, но не с радой, а против рады, потому что… и т. д. и т. д.
В другой листовке красочными, сочными мазками набросал Пащук картину издевательства и зверств, учиняемых офицерьем по запуганным, немым станицам… И как пример, приводил недавний расстрел в Казанке и поставленные там четыре виселицы.
«Кубанцы! Трудовые казаки! Рабочие и крестьяне! Поймите этот кровавый ужас, поймите, к чему приведет вас эта жестокая расправа царского генерала», – заканчивал Пащук вторую листовку и звал на восстание, звал объединиться с наступающими красными войсками, быть им подмогой.
Поговорили недолго. Обработать листовки поручили ему вместе с Климовым. Паценко с Тарасом скоро ушли. Степан Петрович проводил их до калитки, отодвинул бесшумно засов, вышел первый, осмотрелся вокруг и, когда уверился, что нет никого, пропустил их мимо себя, пожимая руки…
Добрый час Пащук с Виктором писали и переписывали, а когда закончили, возились в чулане при свете тусклой лампочки, чуть разбирая мелкие свинцовые куколки шрифта, перекладывая их с пальца на палец, бережно и плотно приставляя друг к другу, словно лепили холодные и гладкие соты… Когда набран был весь текст, уложили заверстанные полосы на ящик, плотно сомкнули, накатали накрашенным валиком, притиснули первый лист… Тиснули второй, третий… Разделили полосы пополам – проверяли, отмечая на полях, потом снова брали крошечные буковки, одни вытаскивали, другие вставляли и, когда весь текст был начисто проверен и исправлен, поочередно начали тискать листок за листком… Степан Петрович тем временем сготовил самовар, наломал большими кусками хлеб в тарелку, пришел за ребятами в чуланчик:
– Идите-ка заправиться… Ишь носы раскрасили…
– А ты, Степан Петрович, сменой будешь. Ну же, подходи, – командовал ему Пащук. – Вот так, теперь намажешь… Кладешь, ну, нажимай… – И он обучал Караева новому ремеслу.
Уж давно прокричали петухи…
Бледнело глубокое темно-синее небо, откуда-то издалека глухо гудел гудок. Просыпались утренние шорохи и вздохи… Комната посерела… В тонкие щели чуланчика заползали рассветные бледные полосы…
А они втроем все крутились около станка. Тут же чавкали хлеб, прихлебывали из стаканов остывающий чай.
Наутро листовки были готовы…
III. Бал
Сегодня у Нади много хлопот. Она весь день занята приготовлениями к концерту. Концерт устраивается в пользу раненых солдат добровольческой армии. Начальница той гимназии, где должен состояться концерт-бал, отобрала группу учениц и поручила им все заботы, а сама то и дело ездила в штаб, тоже хлопотала, сносилась с разными высокими чинами – жаждала блеснуть, отличиться, показать себя во всей красе великодушного порыва.
В число избранниц попала и Надя. Она с большой охотой взялась за порученное дело и последнее время занята была до поздних вечеров, собирала, раскладывала, размеривала, тоже металась по разным учреждениям, приглашала артистов, устраивалась с музыкантами, раздобывала разное добро, вместе с подругами перевозила его в отведенный для этого класс и была всецело поглощена своим новым, живым, интересным делом. Ей впервые приходилось исполнять нечто такое, где она перестала чувствовать себя ученицей, где не было обычной суеты над книгами, забот об уроках, ответах, удачах и неудачах, где она чувствовала себя и более взрослой, и более серьезной, и, казалось ей, по-настоящему нужной и полезной!
Анна Евлампьевна только руками разводила:
– И что это ты, Надюшка, есть совсем перестала, день-деньской шатаешься?
– Ах, мама, ты не представляешь, – щебетала весело Надя, – ты не знаешь, какие будут силы… Всех из театра забрали – самых лучших… Два оркестра духовых, от штаба… Игры, масса игр… И Анна Петровна, начальница, говорила, что все будут принимать участие, а старший класс останется до конца… Наша группа только готовит бал, а во время бала торговать, разводить, помогать будет другая группа,… Мы там свободны. Мы там – э-эх, погоди-ка! – весело щелкнула Надя.
– Ну, так что, что до конца: обедать-то надо все-таки или нет? – сокрушенным голосом возражала Анна Евлампьевна.
– Да что ты: обедать-обедать, вот кухмистерша какая! Мы же и там… Накупили такую массу… Буфет… знаешь, наверху, в третьем классе, как раз над папиной канцелярией. Поваров тоже от штаба, и откуда-то из ресторана. Входных билетов совсем не будет, – только на места… И Анна Петровна говорит, что разобрали… Ничего не осталось… Цены – выше некуда… Сбор, говорят, такой будет – на редкость!..
– И она с вами тут?
– И она… весь день, мамочка, буквально весь день… Ну, не узнаем мы свою Анну Петровну. Такие хлопоты развела – то и знай: а это купили, а это привезли, а это есть, а это есть, а того известили?.. Девчонки говорят – как'старшая подруга стала…
– Ишь развеселились, – как бы укоризненно обронила по чьему-то адресу Анна Евлампьевна, – на что веселиться, что хорошего-то затеяли?
– Да что ты, мама… Что ты, право, сегодня какая, шипишь и всем недовольна… Говорю я тебе, что там закусываем. Совсем и не голодна…
– Не голодна, – с трудом, неохотно сдавалась Анна Евлампьевна, – а вон глаза-то совсем провалились…
Надя вдруг повернулась, подошла к зеркалу и стала рассматривать лицо, то щурилась глазами, то широко их раскрывала, морщила губы, постукивала зубами и рассматривала их чеканную, ровную, блестящую цепочку… Гладила шею, поправляла волосы, проводила тихо, мягко по щекам, словно отыскивая, что тут что-то пристало… Даже за нос себя потрогала…
В ней пробудилось за эти последние дни то самое повышенное, возбужденное состояние, которое испытывала она всегда в подобных случаях: Как только вечер, бал, именины ли у подруги, Надя будто перерождалась в веселую, беззаботную, смеющуюся юницу, – она в этих случаях была просто неузнаваема, и немало дивились подруги, когда Надя звонко, весело хохотала, носилась и прыгала в играх, резвилась, как ребенок, захватывала и увлекала всех своей простодушной, искренней веселостью, охотно и много танцевала, пела в хору. А наутро ее встречали снова серьезную, спокойную, тихую, – будто увлек вчера Надю случайно какой-то дикий шквал, покрутил, повертел и оставил снова погруженную в свои мысли, занятую какими-то своими неизменными, постоянными заботами.
– Скоро, что ли, пойдешь? – спросила Анна Евлампьевна.
– Скоро, мамочка, скоро, – пора собираться… Ты принеси мне, пожалуйста, платье сюда, я пока причешусь… А выгладила, успела?
– Нет, вот тебя стану ждать, – нежно ворчала мать, ковыляя в другую комнату…
Надя собиралась. Скоро зашел за ней Коля Прижанич, гимназист последнего класса, считавшийся Надиной «пассией». У Прижанича с Надей, собственно, не было еще никакой интимности. Но последнее время они действительно встречались часто, много вместе гуляли, много говорили, и эти несколько «бальных» дней Прижанич неотлучно был при Наде и помогал ей хлопотать по устройству концерта. Таких «помощников» в гимназию приходило много. Начальница сначала косилась, даже делала замечания, а потом, войдя в роль «подруги», перестала вмешиваться, и гимназисты валили толпами… Время приготовлений к концерту было началом целого ряда романов в гимназической среде. Что-то в этом роде начиналось и у Прижанича с Надей. Сын богатых родителей, владельцев одного из лучших домов в городе, Прижанич считался «барином» даже в своей товарищеской среде. Одетый с иголочки, обычно надушенный и припудренный, с четким пробором гладко причесанных волос, высокий, стройный юноша, он как-то с первого взгляда отталкивал своим высокомерным видом, горделивою походкой, привычкой обращаться со всеми свысока, глядя всегда через голову того, с кем говорил, словно его собеседника тут и не было вовсе.
Он свободно изъяснялся по-французски и по-немецки, великолепно играл на скрипке, восхитительно танцевал мазурку, был даже изрядно начитан и умел говорить на любую тему. Надя была польщена тем вниманием, с которым относился он к ней за эти последние дни, – он, такой для всех неприступный и гордый! Была не раз взволнована Надя теми странными и обычно так мало понятными разговорами, которые он вел с ней о Толстом, о Шопене, о браке, о боге, о гражданской войне на Кубани… О чем они только не говорили! И по каждому вопросу Прижанич рассыпался одинаково уверенно, обо всем, казалось, имел он твердое, установившееся мнение… Это особенно нравилось Наде, – потому, главным образом, нравилось, что сама-то она этих твердых мнений как раз ни о чем и не имела. Все она знала понемногу, все как будто и понимала, но связать в одно целое, пронизать все свои разрозненные знания каким-нибудь одним ясным мировоззрением – нет, этого она еще не могла, не умела! И потому в Прижаниче видела она человека бесспорно умнее, чем сама она, потому и была польщена, потому и радовалась, торжествовала в душе, что он так явно стремился к ней подойти все ближе и ближе… Когда, уж совсем одетая, она услыхала теперь, что Прижанич зашел, чтобы вместе идти на концерт, Надя радостно вспрыгнула, зарделась, пуще прежнего заторопилась.
Огромный зал гимназии горит в огнях. По стенам – однообразной плотной чередой стоят блестящие глянцевитые стулья; будто нарядные куколки, красуются расцвеченные, увешанные гирляндами киоски, и из них словно многоцветные веселые попугайчики выглядывают милые головки, засыпанные конфетти и серпантином, заколотые ранними цветами, цветными гребенками, булавками, шпильками… В зале не курят, – чисто, высоко, светло, просторно. У дальней стены приподнялась обитая бархатом эстрада, над эстрадой два огромных портрета – в полном блеске, в орденах и в эполетах, перевитые цветными аксельбантами, увешанные дорогими погремушками. Чинно, одна за другой, проплывают медленно пары, ходят раз, и два, и три, все по кругу, мимо стульев, одна другую внимательно оглядывают, улыбаются, – зал гудит от смеха и от веселых разговоров… По коридорам разместилась молодежь, прилипла на подоконниках, забилась в классы, и здесь ей, видимо, свободней, веселей, чем в залитом огнями, торжественно убранном зале. Тут же, около хорошеньких гимназисток, то и дело вертятся, прихорашиваются, звенят малиновым звоном ловкие, расфранченные, блестящие офицеры. Они снисходительно посматривают на молокососов-гимназистов и реалистов, лишь изредка удостаивая их каким-либо незначительным коротким ответом. А те покуривают в кулак или в полуоткрытую форточку, выставив во все стороны дозоры, неестественно громко и фальшиво смеются, пытаются говорить вразумительным авторитетным баском, чуть покровительственно, чуть-чуть небрежно… Всюду гам, смех, девичьи взвизги, хлопанье в ладоши, торопливые веселые, звонкие разговоры… Вдруг среди этого веселого гомона, для всех неожиданно, грянула музыка! Обернулись, оглянулись в ту сторону, заторопились, многие быстро направились в зал, скользя оторопело по глянцевитому блестящему паркету… Концерт открывался… И, как это всегда случается, публика долго не могла разобраться со своими местами: разыскивала кресла, стулья, приставные сбоку места, рассматривала какие-то чуточные голубые талончики, друг друга спрашивая, друг другу объясняя. И все выражали недовольство, но вслух и громко не бранились, только отходили прочь, скорчив недовольную мину. Спорить было здесь не к месту: и общество собралось здесь, так сказать, наивысшее, одни избранники, да и цель концерта была почти что «святая», – ради этой высочайшей цели можно было и обуздать свои человеческие слабенькие страстишки… Поэтому и самая суета была здесь величественно-торжественная, вполне почтенная, очень милая суета. Когда четвертые, шестые, десятые ряды были заполнены, когда там все угомонились и разместившиеся дамы тяжко отдувались от только что минувших тревожных поисков, а почтенные мужья их медленно и вдумчиво ошаривали потные лысины, в это время стали заполняться первые ряды. Тут не было никакого распоряжения, не было даже и намека на какое-либо внешнее воздействие, – нет, все это совершилось само собою, по раз установившемуся обычаю, ибо оно и не могло совершиться иначе: задние ряды всегда должны были видеть и чувствовать, кто сидит в передних, и… завидовать.
Но вот уж разместились и передние ряды. Попритихло кругом, только из коридоров доносилось отдаленное шевеление. Но скоро и там затихло.
Плавно, величественно и строго, с большим достоинством и пониманием важности момента выступила первою «душа бала», несравненная Анна Петровна, начальница гимназии, и долго склоняла во всех падежах любимое выражение «моя гимназия». Она благодарила собравшихся за честь, которую оказали они своим посещением «моей гимназии», говорила о традициях гуманности, которыми жила все время и живет до сих пор «моя гимназия»; говорила о благородстве и возвышенности целей, поставленных себе устроителями концерта в «моей гимназии», – одним словом, ее речь была направлена к тому, чтобы собравшиеся уяснили себе, какую колоссальную общественно-политическую роль играет ныне в государственной жизни «моя гимназия». И все поняли, что хотела сказать Анна Петровна, все приветствовали ее, когда она, взволнованная и раскрасневшаяся, с еще большим достоинством на сияющем лице, плавно, величественно спускалась с эстрады. Вслед за нею, лохмат и страшен, словно исчадие ада, вырвался откуда-то совсем неожиданно гимназический «батюшка». У него коричневой щетиной заросла кругом не только голова, но и половина лба была сплошь волосата, и только белою полоскою просвечивала другая, узкая незаросшая половинка. Косматая борода лопатой падала вниз, а сверху проросла насквозь обе щеки, засыпала нос волосами, законопатила губы, скрыла в жестком волосяном мху оба уха, и от батюшки ничего не осталось, виднелся издали только страшный шар, волосяной – круглый сверху и чуть-чуть распластавшийся внизу. Когда батя начинал говорить, все его волосяное царство приходило в движение, и было невозможно разобрать, откуда эти звенящие, лукавые, заискивающие нотки святого голоска: тряслись волосы возле ушей, встряхивался и законопаченный наглухо нос, и что-то шамкало, чавкало около губ… Батя мог говорить временами не то что восторженно, а прямо исступленно, – это случалось с ним обыкновенно в минуты негодования, когда кого-нибудь следовало проклинать, посылать кому-нибудь смертоносные укоры, впускать христианское жало в нечестивую душу и сверлить, сверлить, сверлить этим жалом, насколько хватит сил… Тут у него работали ноги и руки, вздымались, опускались, топали, хлопали, бурно протестовали, а темная широкая ряса, словно парус в непогоду, рвалась и металась в разные стороны, качала, как былинку, разгоряченного отца Гавриила, – батю звали Гаврилой. Вздымалось валунами, дрожало и плясало его дремучее волосяное царство; здоровенная лопата билась по груди, а заросли возле носа и губ, сквозь храп и фырканье, заплеванные негодующей ядовитой слюной, дрыгались в разные стороны и гневно тряслись в соответствии с общим состоянием Гаврилы.
Батя гнусавым и кротким голосочком совсем тихо повел свою святенькую речь. Но чем дальше, тем больше входил в азарт, то и дело подогреваясь словами проклятья, что вырывались бурно из его дремучих волосяных зарослей.
– Богу угодно было, чтобы мы собрались ныне для святого дела помощи младшему своему страждущему брату. Сердце человеческое не может, дети мои, оставаться спокойным, когда земля застонала под мечом диавольским, когда разгневанный господь за пороки людские послал на человеков свое испытание. Брат на брата и сын на отца – поднялась земля во кровопролитии, и несть конца страданиям человеческим…
Пока Гаврила перечислял эти свои соображения, он спокойно стоял на месте. Только однажды, при упоминании имени господнего, воздел кротко руки к небу и чуть запрокинул лохматую голову. Все было в порядке. Но когда он перечислил соображения насчет гнева господнего до конца, когда он перешел к проповеди, укорам и проклятьям, – тут музыка пошла иная: Гаврила распрыгался и расплясался по сцене, как дикий разъяренный буйвол, и, надо полагать, брюхатые толстячки, сидевшие в первых рядах, чувствовали себя небезопасно: Гаврила размахивался что есть мочи здоровенными кулаками и с невероятной силой ударял по пустому пространству, сокрушая ему одному видимого врага. Он так могуче наносил удары, что начинало казаться на самом деле, будто кого-то он тут колошматит. Прорывавшаяся сквозь заросли волосяные тягучая батина слюна расплевывалась яростно по сторонам, и мелкие брызги ее долетали до первых рядов. Через три минуты батиной речи толстяки и толстушки передних рядов уже сидели, прикрывшись платочками, ежесекундно ожидая новых плевков освирепелого Гаврилы.
– …они нарушили все законы божеские и человеческие, они разрушили святыни христианские, они господа бога вырвали из сердца, и проклял их господь, отвернул от них лучезарное лицо свое, наслал голод и мор на их проклятые города!..
Это батя костил большевиков.
– Где она, святыня, – возопил он дальше задрожавшим голосом, – где она, церковь христианская? Где спокойствие земли русской, православной и где – не загрязнен ли зверями лютыми – ее венценосный, богом поставленный правитель? Этих зверей в человеческом облике, разворовавших добро наше и осквернивших святыни наши, проклянем же и мы как супостатов, и за спасение единой и неделимой земли русской, за веру нашу и за отечество, за правителя, богом поставленного, вознесем господу богу свои кроткие молитвы!..
Все сидевшие поднялись со своих мест и начали молиться. Гаврила гнусавил священные псалмы, творил святые молитвы.