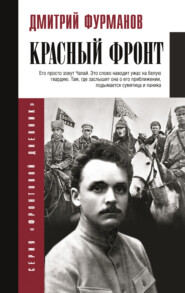По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего там? – спросит недоуменно Анна Евлампьевна.
– Да что, – махнет рукой старик, – говорил я, что прах один…
И начинает он своей старухе пояснять что-то совершенно отвлеченное, чего та и не понимает, да и не слушает, уходя от разговоров то и дело на кухню… Воротится, а он опять, а он опять, пока не придет кто-нибудь из знакомых, не оборвет философствующего старика. И уже через пару минут, после обычных приветствий и вопросов, Петр Ильич кидается на нового, трижды несчастного, собеседника, удушая нескончаемыми разговорами. Мысли у него путаные, неясные, говорит он о чем угодно и по каждому вопросу с одинаковым апломбом… Схватывались прежде с ним поспорить по детскому неведенью и любопытству и Надя с Павлом, но вот уже два-три года как пропал для них аромат отцовских философствований, и, не видя больше в них никакого толку, они обычно отмалчивались, занимаясь чем угодно, только не «деловою» с ним беседой. Впрочем, это нисколько не мешало им уважать, по-своему даже любить старика и обращаться с ним просто, по-приятельски.
В семье Кудрявцевых была та простецкая, хорошая атмосфера, где не чувствуется ни малейшего гнета, никакого проявления родительского режима, где каждый приходящий через десять минут начинает себя чувствовать «своим» и уходит отсюда полный какой-то умиротворенности, спокойствия. Даже трудно было бы объяснить, отчего это так выходило. Сам старик в конце концов был надоедлив и тошен своими разговорами, расспросами, рассказами, пояснениями, вообще своей назойливостью. Правда, с ним и не очень-то церемонились – со второй же беседы приучались не отвечать ему по крайней мере на три четверти вопросов, и это его, видимо, нисколько не обижало – старик перекидывался на Анну Евлампьевну, а та уж всегда умела свести с ним счеты…
Анна Евлампьевна была добродушнейшая, невиннейшая женщина, вся жизнь которой сосредоточивалась в любви и заботах о детях, в хлопотах по хозяйству… Она только по долгу да по привычке состязалась в разговорах с Петром Ильичом, а по существу ничего не понимала в его разглагольствованиях о раде, о советской власти, большевиках, гражданской войне… Петр Ильич при ней говорил все равно что в воздух – и потому особенно любил говорить именно с ней: тут уж не встретишь никаких протестов, никаких возражений, тут все, что ни скажи, – ладно и хорошо…
Павел Петрович в доме как бы вовсе не чувствовался: разговаривал мало и вяло, пыхтел неотрывно папироску, что-нибудь шевелил и перекладывал с места на место, много и часто ел, пил, иногда читал, но мало; основательно и охотно засыпал, по преимуществу одетый, уткнувшись на диванчике…
Душой семьи была, несомненно, Надя. Не по годам серьезная и умная, она очень много читала, всем интересовалась, очень чутко относилась и к событиям общественной жизни, но как раз именно в этой области ей многое не давалось, было вовсе непонятно, и этого непонятного никто не мог объяснить. Она, например, не могла понять того, как и отчего существуют столь непримиримые отношения между коренными казаками-кубанцами и большинством приезжего населения; отчего теперь по отделам то атаманы заправляют, то советы и отчего именно приезжие, «иногородние», больше льнут к советам, а казаки от них отшатываются, восстают, борются против них? Даже у себя в гимназии она замечала между подругами какую-то разноголосицу и в отношениях начальства гимназического чувствовала эту самую неодинаковость внимания к тем и другим. Пыталась она говорить и с отцом и с Павлом, но толку никакого не вышло: отец понес ахинею, а Павел отмалчивался, пробормотал что-то невнятное и от разговора уклонился. Так, в неведении, горя охотой все понять и все узнать, не находила Надя верного, желанного пути, не встречала желанного человека, не знала, как и что ответить себе на возникавшие тревожившие ее вопросы.
II. На Дубинке
На Дубинке, в доме Гущина, вот уже четыре года живет рабочий с завода «Кубаноль», Степан Петрович Караев. У Караева семьи нет: пятый год пошел, как схоронил он чахоточную жену, и с тех пор один, бобыль бобылем. Занимает он крошечную комнатку во флигеле, кроме завода нигде не бывает, а по вечерам до поздней ночи в тусклом его окошечке светит лампа: Степан Петрович большой охотник до книг. Его на заводе недаром прозвали «учителем». Справку ли надо какую получить, объяснить ли что, узнать, – всегда обращаются к нему. И на все вопросы отвечает этот удивительный грамотей «учитель». К нему товарищи относятся с уважением, хоть и не прочь иной раз подтрунить над книжной караевской ученостью:
– А скажи ты, учитель, почему это у человека пять пальцев на руке, а не восемь? Ладнее, кажись, было б работать-то?
– Значит, не ладнее, коли пять, – отвечает Караев серьезно, будто и не поняв вовсе шутки.
– Hv, a все-таки, как же это по книге у тебя там выходит?
– По книге никак не выходит… А вот болтаешь ты, Карась, и сам не ведаешь, чего болтаешь, – урезонит Караев. – Как удобнее, так оно и складывается, а что неудобно в жизни, то навсегда пропадет… Может, и было когда восемь, да не к делу оказались, и осталось тебе, сердешному, только пять… А что те больше хочется – хватит и этих на чужое-то рыло работать…
И Степан Петрович всегда от шутки так повернет разговор, что у собеседника враз отпадет охота шутить, а вместо шуток складываются невольно какие-то другие речи, родятся какие-то другие мысли, которые и близки и понятны, про которые надо и думать и говорить, говорить…
Угреватое желтое лицо Караева на первый взгляд кажется сухим и неприветливым, но это только на первый взгляд. А разговорись с ним – и добрые карие глаза засветятся внутренней теплой ласкою, и слова его, такие простые и всегда нужные, завлекут тебя, затянут, заставят слушать, отвечать, спрашивать…
Сегодня Караев весь день как-то особенно серьезен и молчалив: на работу пришел позже обычного, ушел тоже раньше всех – это с ним случается редко. В комнатке у него прибрано, вещи уложены, словно ехать куда собирается, и все ходит он, ходит – перекладывает их с места на место. Рядом с комнатой, где он живет, находится небольшой чулан, и там все прибрано, а на стене подвешена жестяная маленькая лампочка. Взялся за книгу, почитал немного, мысли не те, – оставил. Отбросив верхнюю занавеску, вытянул с печки небольшой медный самоварчик, начал возиться с углями. Потом сидел за чаем и тихо, медленно высасывал стакан за стаканом… Выходил в сени, выходил и на двор, за ворота. Снова усаживался к столу и все ждал – ждал чего-то напряженно…
Спустились сумерки, в комнате стало совсем темно, но огня Караев не зажигал… Где-то поблизости в железную крышу дома вдруг ударились один за другим два брошенных камня. Караев встал и вышел за калитку – там с противоположной стороны быстро перескочили к нему две тени:
– Спокойно?
– Спокойно все… Налево… Не ткнитесь – приступки тут. А где же ящик, у Климова?
– Да, – ответил кто-то второпях, – не закрывай, они вслед за нами.
Через минуту от палисадника отделились еще две фигуры, – в руках у них чернело что-то массивное… Караев быстро выскользнул им навстречу, подхватил ящик спереди, и так, втроем, втащили его через калитку прямо в чулан. Зажгли лампочку, прикрыли ее тряпкой, начали распаковывать. Остальные прошли в комнату, осмотрелись, пощупали стены, тихонько постучали здесь и там, заглядывали во двор, приподнимая занавеску: темная темь, ничего не видать!
Это на новую конспиративную квартиру пожаловали к Караеву подпольщики-большевики. Притащили с собой шрифт, краску, станок, бумагу, – сегодня надо было готовить воззвание. Двое, что прошли в комнату, видимо, очень торопились, три раза приходили в чулан, понукали товарищей заканчивать:
– Потом разберется… Успеете… Ну, айда, айда, поживее…
Вошли. Сняли шапки и широкополые шляпы; один – высокий, стройный, черноволосый, с черной курчавой бородой, вдруг сдернул парик и оказался совсем молодым человеком лет двадцати, двадцати двух. Это – Виктор Климов. В черных серьезных глазах еще дрожали быстрые огоньки беспокойства. Матовое лицо передергивалось нервной рябью. Другой – среднего роста, Степан Пащук, отклеил рыжие тараканьи усики и с улыбкой положил их перед собой на столе. Степану было лет тридцать: плотный, коренастый, с высокой грудью, с быстрыми черными огнистыми глазами; движенья порывисты и нервны, голос глухой, надорванный.
И Климов и Пащук тотчас разделись, побросав на пол шапки и обтрепанные пальтишки. Те двое, что вошли первыми, сидели за столом не раздеваясь, шляп не сняли: видно, что торопились уходить. Одному можно было дать лет двадцать пять – тонкоусому, с небольшой русой бородкой; другому – лет сорок; этот не наклеил ни усов, ни бороды, только низко опустил на морщинистое лицо широкополую старую шляпу – Кирилл Паценко, урожденный кубанский казак, недели три назад приехавший из Акатуя, где пробыл без малого четыре года. Сосед его – тоже из ссыльных, Тарас Бондарчук, последнее время почти безвыездно работал в Армавире и только накануне приехал в Краснодар.
– Ну, вот что, ребята, – сказал Паценко. И голос его прозвучал серьезно и внушительно. Видно было, что он здесь главный. – Мы наскоро обсудим теперь же, а вы обработаете сами… Лиза говорила, что из штаба получены какие-то новые сведения, и мы с Тарасом сейчас уйдем.
– Кто дал? – спросил Климов.
– Опять Владимир…
– Ловко приладился, молодчага, – уронил одобрительно Пащук.
«Владимир» – это была кличка одного из товарищей, устроившегося писарем в штабе генерала Покровского и передававшего изо дня в день в подпольную организацию все необходимые материалы.
– Так вот, – продолжал Паценко, опустив голову и не глядя ни на кого, – мы с Тарасом пойдем… Приехали там еще из Новороссийска – ждут… Надо все разузнать и сообщить им свои новости… Лиза говорила – какие-то перемены…
– Где? – спросил Бондарчук.
– В раде… Она будто раскалывается: одни уходят, другие хотят бороться до последнего в городе и города не сдавать…
– А Покровский? – спросил снова Бондарчук.
– Первый, сволочь, убежит, – вставил Климов и улыбнулся, широко обнажая здоровенные кряжистые зубы.
– Убежит-то убежит, – вслух рассуждал Бондарчук, – а вон что вытворяет; насчет Казанки все верно: четыре виселицы… и двенадцать человек в овраге.
– Вот это и надо вклеить, – ткнул пальцем в стол Паценко и взглянул на Климова, как будто указывая ему место, куда именно следует что-то «вклеить». – Даже на этом и построим. Как думаешь? – обернулся он к Пащуку.
– Чего ж, отлично, – соглашался тот, похлопывая тихо себя по коленям. – Только я думаю, что два разных придется писать: одно про раду, другое про Казанку…
– Да где уж, не успеем, – запротестовал было Тарас.
– Молчи, Тарас, молчи, – перебил его Пащук, – раз говорю, значит, сделаем… с Климом… Вдвоем, да не сделать, – на что мы и годны после этого?..
– А ну-ка, давайте скорей, – быстрым шепотком торопил Паценко. Ему не терпелось, сообщение Лизы не давало покоя.
Караев молча сидел на самом конце лавки и в разговор не вступал, только переводил с одного лица на другое темные грустные глаза.
– Степан, ты, значит, с собой захватишь половину? – обратился к нему Паценко и мотнул головой в сторону Клима.
– Возьму…
– Да не всыпься, дядя…
– А всыплюсь, отрыть можно, – отшутился тот без улыбки на спокойном лице.
– То-то, отроют… Не всегда, брат, удается… Так вот что, – обернулся он снова к Пащуку, – не лучше ли будет, чтоб ты пока один тут кой-чего набросал, а мы поговорим о другом, понимаешь? Мысли только главные… а все остальное вы там вдвоем с Климовым…
– Идет.
И Пащук достал бумагу, перед собой положил карандаш, отодвинулся на другой угол стола, потер ладонью морщинистый лоб и так, с поднятой головой, закрыв глаза, сидел с минуту. Потом схватил карандаш и быстро-быстро стал записывать. Тем временем Паценко, Климов и Тарас, наклонившись друг к другу, разговаривали тихо, чтобы не мешать Пащуку.
– Ты, Степан Петрович, тоже придвигайся, – обратился к Караеву Паценко.