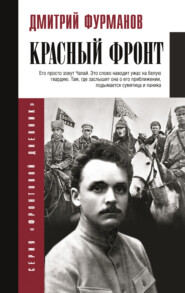По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но и засада не дала никаких результатов, получился даже курьез: соседка Пелагея Львовна Ниточкина забежала спросить, не перелетала ли сюда во двор через изгородь рябая хохлушка-курица. И так только вошла за калитку, немедленно была задержана и препровождена в комнату, где сидела папаха. Тот учинил ей допрос: откуда родом, давно ли знакома с семьей Кудрявцевых, как часто у них бывала, зачем пришла теперь и прочее и прочее. На обезумевшую от страха Пелагею Львовну было смотреть и скорбно и смешно: ответы у ней были невпопад, вопросы она наполовину не слышала, наполовину вовсе не понимала, так как не могла никак уяснить себе, зачем и кому потребовались все эти сведения. Продержали Ниточкину до позднего вечера, пока не пришел снова тот офицер, что отдавал приказание об обыске; он после нового допроса отпустил измученную Пелагею Львовну.
Найти кой-что, пожалуй, у Кудрявцевых и могли бы. У Нади в записной книжке, среди всякого рода заметок – о Достоевском, о любви, о половом влечении, – были записаны и те соображения, которые Климов высказывал ей в личных беседах или развивал на собраниях кружка. Но все это сыщики пропустили, бегло просматривая написанное и разыскивая, видимо, как раз только те места, где говорилось бы про любовь, про отношения Нади к близким ей людям. А потом, глядя на нее, наивную, юную, видимо, не допускали, что тут может скрываться какой-то «враг», что у Нади могут оказаться какие-то «дела». На этот вечер кружок собирать не предполагалось, и когда Надя говорила накануне Виктору «часов в пять…», – это речь шла об условленной прогулке на берег Кубани. У Нади ничего не нашли еще и потому, что, по совету Виктора, никогда и ничего на квартире у Кудрявцевых собравшиеся не оставляли. Книжки, которые могли бы повредить делу, приносил и уносил или сам Виктор, или прятал за пазухой Чудров. Но занятия велись, положим, не только по этим книжкам. Виктор любил и такой способ: возьмет какую-нибудь дряненькую белую брошюрку, прочтет, а потом и начнет разъяснять, в чем ее несостоятельность, слабость или вред. Слушающие обычно все его мысли отмечали и записывали в книжечки или на листки и по этим запискам разбирались дома, а уж на следующем собрании разгорались по этому кругу вопросов разносторонние жаркие споры. Сегодня из членов кружка никто не приходил. Не пришел и Виктор. Всего больше опасалась Надя, что он, не найдя ее в условленном месте, придет сюда. Тогда… Она не знала, что будет «тогда», но содрогалась от одной мысли, что Виктор может попасть «им» в лапы. Хотя ни разу не говорил он ей о своей принадлежности к подпольной организации, не говорил о том, что большевик, но уж давно поняла, почуяла чуткая Надя, что Виктор чего-то не договаривает, что, несмотря на свою, казалось бы, полную откровенность с нею, он оставляет что-то «про себя», не сообщает ей. В этих мыслях не столько утверждали ее занятия Виктора с кружком, сколько разговоры их, долгие разговоры с глазу на глаз, когда ходили они по переулкам или по берегу Кубани. И особенно когда начинал ей Виктор рассказывать про эти вот прокламации, листовки, воззвания, что каждое утро развешиваются по заборам Краснодара: он говорил, как, должно быть, трудно все это выполнять, прятаться, каждую секунду ожидать, что накроют, и все-таки упорно делать, делать, делать свое дело! В эти минуты казалось Наде, что он рассказывает про себя, что он сам связан с такой организацией и с таким делом. Но не спрашивала его. А Климов сам никогда об этом не проговаривался. И теперь Надя чувствовала, что не сдобровать ему, если угодит в руки засады. Но Виктор не шел. И рада она была тому, что не приходил, и в то же время хотелось видеть его: в эту горькую минуту было бы так хорошо с ним поговорить!
«Нет, нет, не надо, пусть лучше не надо сегодня!» – подумала она.
На этих мыслях оборвал ее чей-то громкий голос, доносившийся из спальни стариков. Это офицер допрашивал Пелагею Львовну:
– Часто ходишь?
– И где часто, – заторопилась старуха, – когда тут, батюшка, ходить-отдыхать: ты и на базар, ты и…
– Будет болтать, отвечай дело, – оборвал ее офицер и, увидев вошедшую Надю, впился глазами, сладострастно обшарив голову, грудь, весь стан до пола, посмотрел в глаза.
– А вы… вы тоже здешняя?
– Дочь, – из угла ответил за Надю Петр Ильич. Заметил старик остановившийся на дочери офицерский взгляд и хотел теперь одного – чтобы ушла она скорее…
– Вот вы и свидетельницей будете у нас, хе, хе, хе… Показывать будете, как все было…
– Так отпусти же, ваше благородие, – взмолилась Пелагея Львовна, – ей-богу, отпусти скорее!
– Старуха! – прикрикнул офицер. Та вдруг съежилась, смолкла.
– Вам известна эта личность? – обратился он с улыбкой к Наде и оскалил под рыжими редкими усиками ряд уродливых полугнилых зубов. Синие глазки замаслились, сощурились, расплылся еще шире широкий рыхлый нос… Все лицо резко изменилось от этой улыбки, стало хищным и жестоким, как у коршуна.
– Да это же соседка, Пелагея Львовна, – тихо ответила Надя. Сказала и так посмотрела офицеру в глаза, что он перестал улыбаться.
– А зачем она к вам шляется… эт… та соседочка?..
– Не знаю, спросите, видно, дело есть.
– Дело?.. Гм… – Он франтовато покрутил усы, закинул голову, спросил: – А как вы думаете, что у нее может быть за дело?
– Так я же тебе, ваше благородие, говорила, что курица у меня… хохлушка, – взмолилась было Пелагея Львовна.
Офицер крикнул:
– Ты замолчишь, карга? Кого я спрашиваю?!
Пелагея Львовна пригнулась, пропала в платок.
– Ну? – уставился он на Надю.
– Не знаю…
– Так, гм… так… не знаете?
И снова покрутил тараканьи усики.
– Ну, ладно, не злой я человек. Иди, старуха, да больше чтоб куры у тебя через забор не летали, слышишь?
– Слышу, батюшка, слышу, все поняла… все… родимый, все, – приговаривала на ходу Пелагея Львовна, торопясь к двери, боясь, как бы не задержали снова.
– Протокол готов? – обратился офицер к папахе.
– Так точно! – подал тот исписанную бумагу.
– Все проверили?
– Так точно, и очень внимательно.
– И у них? – скосил офицер на Надю прищуренные масленые глазки.
– И у них, так точно…
– Впрочем, я сам еще проверю!
Встал, гнило улыбнулся и направился к Наде в комнату.
– Останьтесь здесь, я один, – обернулся он к сыщикам, которые поднялись было вслед за ним.
И Надя хотела остаться, но как же это… как пустить его одного в эту комнату, как ему все доверить?
«А впрочем, не все ли равно, буду я или нет? Он же все сделает, что хочет. Ну, что я могу сказать ему?»
– Папа, укажи ты, – обратилась она к отцу. Старик вдруг встрепенулся, хлопотливо залопотал:
– Да, да… я сейчас… я все покажу… А ты тут… а ты тут…
– Нет, вы сидите, – повернулся офицер. – Я хочу с самой хозяйкой… Вы сама мне все будете показывать… Сама… А папа потом…
– Да не хочу я! – крикнула Надя.
– Это как «не хочу»? – взглянул на нее офицер.
– Не хочу! Не стану я, вот что! Не стану, не стану!!
– Надя… Нельзя этого, – вмешался Павел. – Нельзя… Сейчас ты обязана, раз тебе говорят… Понимаешь?.. Ну, успокойся, что ты?
Было так тяжело от своей круглой беспомощности, так было обидно, что одну минуту Надя едва не разрыдалась, но вдруг, не сказав ни слова, она быстро, вперед офицера, прошла в свою комнату.
– Что вам нужно? – спросила, и голос задрожал угрозой. – Что вам еще нужно? Они же искали… Все вывернуто… Чего еще?
– А вот, значит, надо, – с деланным спокойствием отвечал офицер, наклоняясь к рассыпанным, не убранным с пола бумажкам. – Переписка? Изволили переписываться?
– Видите…
Он взял одну, другую, третью записки, пробежал глазами, положил на стол…
Найти кой-что, пожалуй, у Кудрявцевых и могли бы. У Нади в записной книжке, среди всякого рода заметок – о Достоевском, о любви, о половом влечении, – были записаны и те соображения, которые Климов высказывал ей в личных беседах или развивал на собраниях кружка. Но все это сыщики пропустили, бегло просматривая написанное и разыскивая, видимо, как раз только те места, где говорилось бы про любовь, про отношения Нади к близким ей людям. А потом, глядя на нее, наивную, юную, видимо, не допускали, что тут может скрываться какой-то «враг», что у Нади могут оказаться какие-то «дела». На этот вечер кружок собирать не предполагалось, и когда Надя говорила накануне Виктору «часов в пять…», – это речь шла об условленной прогулке на берег Кубани. У Нади ничего не нашли еще и потому, что, по совету Виктора, никогда и ничего на квартире у Кудрявцевых собравшиеся не оставляли. Книжки, которые могли бы повредить делу, приносил и уносил или сам Виктор, или прятал за пазухой Чудров. Но занятия велись, положим, не только по этим книжкам. Виктор любил и такой способ: возьмет какую-нибудь дряненькую белую брошюрку, прочтет, а потом и начнет разъяснять, в чем ее несостоятельность, слабость или вред. Слушающие обычно все его мысли отмечали и записывали в книжечки или на листки и по этим запискам разбирались дома, а уж на следующем собрании разгорались по этому кругу вопросов разносторонние жаркие споры. Сегодня из членов кружка никто не приходил. Не пришел и Виктор. Всего больше опасалась Надя, что он, не найдя ее в условленном месте, придет сюда. Тогда… Она не знала, что будет «тогда», но содрогалась от одной мысли, что Виктор может попасть «им» в лапы. Хотя ни разу не говорил он ей о своей принадлежности к подпольной организации, не говорил о том, что большевик, но уж давно поняла, почуяла чуткая Надя, что Виктор чего-то не договаривает, что, несмотря на свою, казалось бы, полную откровенность с нею, он оставляет что-то «про себя», не сообщает ей. В этих мыслях не столько утверждали ее занятия Виктора с кружком, сколько разговоры их, долгие разговоры с глазу на глаз, когда ходили они по переулкам или по берегу Кубани. И особенно когда начинал ей Виктор рассказывать про эти вот прокламации, листовки, воззвания, что каждое утро развешиваются по заборам Краснодара: он говорил, как, должно быть, трудно все это выполнять, прятаться, каждую секунду ожидать, что накроют, и все-таки упорно делать, делать, делать свое дело! В эти минуты казалось Наде, что он рассказывает про себя, что он сам связан с такой организацией и с таким делом. Но не спрашивала его. А Климов сам никогда об этом не проговаривался. И теперь Надя чувствовала, что не сдобровать ему, если угодит в руки засады. Но Виктор не шел. И рада она была тому, что не приходил, и в то же время хотелось видеть его: в эту горькую минуту было бы так хорошо с ним поговорить!
«Нет, нет, не надо, пусть лучше не надо сегодня!» – подумала она.
На этих мыслях оборвал ее чей-то громкий голос, доносившийся из спальни стариков. Это офицер допрашивал Пелагею Львовну:
– Часто ходишь?
– И где часто, – заторопилась старуха, – когда тут, батюшка, ходить-отдыхать: ты и на базар, ты и…
– Будет болтать, отвечай дело, – оборвал ее офицер и, увидев вошедшую Надю, впился глазами, сладострастно обшарив голову, грудь, весь стан до пола, посмотрел в глаза.
– А вы… вы тоже здешняя?
– Дочь, – из угла ответил за Надю Петр Ильич. Заметил старик остановившийся на дочери офицерский взгляд и хотел теперь одного – чтобы ушла она скорее…
– Вот вы и свидетельницей будете у нас, хе, хе, хе… Показывать будете, как все было…
– Так отпусти же, ваше благородие, – взмолилась Пелагея Львовна, – ей-богу, отпусти скорее!
– Старуха! – прикрикнул офицер. Та вдруг съежилась, смолкла.
– Вам известна эта личность? – обратился он с улыбкой к Наде и оскалил под рыжими редкими усиками ряд уродливых полугнилых зубов. Синие глазки замаслились, сощурились, расплылся еще шире широкий рыхлый нос… Все лицо резко изменилось от этой улыбки, стало хищным и жестоким, как у коршуна.
– Да это же соседка, Пелагея Львовна, – тихо ответила Надя. Сказала и так посмотрела офицеру в глаза, что он перестал улыбаться.
– А зачем она к вам шляется… эт… та соседочка?..
– Не знаю, спросите, видно, дело есть.
– Дело?.. Гм… – Он франтовато покрутил усы, закинул голову, спросил: – А как вы думаете, что у нее может быть за дело?
– Так я же тебе, ваше благородие, говорила, что курица у меня… хохлушка, – взмолилась было Пелагея Львовна.
Офицер крикнул:
– Ты замолчишь, карга? Кого я спрашиваю?!
Пелагея Львовна пригнулась, пропала в платок.
– Ну? – уставился он на Надю.
– Не знаю…
– Так, гм… так… не знаете?
И снова покрутил тараканьи усики.
– Ну, ладно, не злой я человек. Иди, старуха, да больше чтоб куры у тебя через забор не летали, слышишь?
– Слышу, батюшка, слышу, все поняла… все… родимый, все, – приговаривала на ходу Пелагея Львовна, торопясь к двери, боясь, как бы не задержали снова.
– Протокол готов? – обратился офицер к папахе.
– Так точно! – подал тот исписанную бумагу.
– Все проверили?
– Так точно, и очень внимательно.
– И у них? – скосил офицер на Надю прищуренные масленые глазки.
– И у них, так точно…
– Впрочем, я сам еще проверю!
Встал, гнило улыбнулся и направился к Наде в комнату.
– Останьтесь здесь, я один, – обернулся он к сыщикам, которые поднялись было вслед за ним.
И Надя хотела остаться, но как же это… как пустить его одного в эту комнату, как ему все доверить?
«А впрочем, не все ли равно, буду я или нет? Он же все сделает, что хочет. Ну, что я могу сказать ему?»
– Папа, укажи ты, – обратилась она к отцу. Старик вдруг встрепенулся, хлопотливо залопотал:
– Да, да… я сейчас… я все покажу… А ты тут… а ты тут…
– Нет, вы сидите, – повернулся офицер. – Я хочу с самой хозяйкой… Вы сама мне все будете показывать… Сама… А папа потом…
– Да не хочу я! – крикнула Надя.
– Это как «не хочу»? – взглянул на нее офицер.
– Не хочу! Не стану я, вот что! Не стану, не стану!!
– Надя… Нельзя этого, – вмешался Павел. – Нельзя… Сейчас ты обязана, раз тебе говорят… Понимаешь?.. Ну, успокойся, что ты?
Было так тяжело от своей круглой беспомощности, так было обидно, что одну минуту Надя едва не разрыдалась, но вдруг, не сказав ни слова, она быстро, вперед офицера, прошла в свою комнату.
– Что вам нужно? – спросила, и голос задрожал угрозой. – Что вам еще нужно? Они же искали… Все вывернуто… Чего еще?
– А вот, значит, надо, – с деланным спокойствием отвечал офицер, наклоняясь к рассыпанным, не убранным с пола бумажкам. – Переписка? Изволили переписываться?
– Видите…
Он взял одну, другую, третью записки, пробежал глазами, положил на стол…