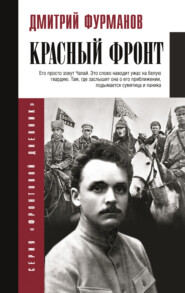По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Послышалось вялое ворчанье Павла и отдельные слова, вроде:
– Опять тревога… отдыху нет… вздохнуть-то не дадут как следует…
Наконец он появился – с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке с подтяжками на плечах, волосы на голове дико были взъерошены. Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.
– Вы к кому?
– Сюда, к вам, – ответила резко папаха.
– Ко мне? – уставился на него Павел.
– Не к вам одному, а к целому дому… Да ты смотри билет-то, – оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Анны Евлампьевны.
Павел взял бумажку с печатью, заглянул, понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно, а губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:
– Кого же тут… Нас вот вся семья… Сейчас отец придет да Надежда… сестра…
В это время дверь отворилась и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:
– Немедленно произвести обыск… тщательный… Да всех задерживать, кто придет!
Позвали со двора двух солдат, – там их стояло человек пять-шесть, – и началось… Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, и на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшестка соскочил горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась – дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут было. Анна Евлампьевна, сама не своя, подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:
– Приданое… тридцать лет лежит… только в пасху да на рождество…
– Ладно, старуха, не лепечи, без тебя знаем, где что искать, – ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым, парень лет тридцати, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица. Подошел от стола и второй сыщик, низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.
– Скулит? – мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.
– А нехай поскулит, перестанет, – ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука.
В это время детина в папахе, видимо бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки «святых» церковных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.
– Ишь напихали, – приговаривал он, просматривая бегло всю эту ветхую, пыльную рухлядь.
– На-ко, чего-чего нет!
– А тут что, тетка? – крикнули они Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкафчик под киотами.
– И ничего тут… – залепетала Анна Евлампьевна. – Ничего, ей-богу, ничего, одна вода святая…
И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным фартуком размазывала она их по лицу, сквозь рыданья приговаривала:
– Одна вода… Одна святая… Иконку-то бросили… – нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.
– Ну-ну, потом соберешь, – грозно гаркнула папаха. – Ишь разревелась… Открывай шкаф!..
– Да, право, тут…
– Открывай, черт! Разломаю!
Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулочки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночки с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троице-Сергия – немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек, с мохнатыми грязными руками выбрасывает одну за другою драгоценные, так бережно хранимые ею вещицы. Анна Евлампьевна не могла дальше вынести, смертно бледнела, долго дрожала мелкой дрожью, и как стояла, так и грохнулась навзничь посреди юбок, узелков, картин, чайничков, святых вещичек из священного шкафчика…
– Ну, отлежишься, – прохрипела папаха, продолжая работу.
Павел кинулся было на кухню за водой.
– Эй, куда? – окликнул его беззубый.
– Воды… воды ей надо, – показал он на лежащую без памяти мать.
– Ничего, полежит…
– Как полежит? Я ей воды сейчас…
– Не ходи, говорю, аль не слышишь?! Вот кончу, вместе сходим. – И он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни:
– Иди, мол, иди…
Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.
– Ну, за водой-то, – обратился он к Павлу.
И когда они вышли в кухню, цыган поспешно начал обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все это быстро запихал в карман. Папаха рылась уже по шкатулкам, вытряхнув остатки из священного шкафчика; она тоже оглядывалась зорко и тоже что-то распихивала по карманам.
Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась… Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.
Надя догадалась быстро, в чем дело, – на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно передергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик, как вошел, так и обомлел.
«Воры!» – решил он про себя и закричал бы, если б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.
– Это ужасно… Что это?! Господи… господи… – шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны. – Так за что это? – вдруг спросил он и, поднявшись с кресел, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.
– Приказано, – отрубила папаха, – вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку…
– Да ищете что? – с сердцем спросил Петр Ильич.
– Что попадет, – урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой кофточки, юбки, платочки.
– Так, господи, что же это такое?! – сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова и бессильно упадая в кресла.
Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади. И так же, как возились они с юбками Анны Евлампьевны, кощунствовали теперь с письмами, книгами, записными книжками – все это пересматривали, кое-как и наспех перечитывали, пакостно улыбались, найдя какую-нибудь интимность в переписке. Но все это было не то, что искали сыщики. Желанное не попадало. Глубоко потрясенная, Надя прислонилась к подоконнику, выглядывала оттуда запуганными, растерянными глазами.
И так ей стало горько, что чуть не разрыдалась, а потом вдруг опустилась вся, ослабела, даже перестала эту острую боль ощущать и стояла как бы в забытьи, видела и не видела, как один за другим открывались ящики – ив стене и в столе, как оттуда выбрасывались пачки драгоценных для нее живых документов и как их, словно торговка яйца на пробе, сначала рассматривали на свет, видимо не доверяя тому, что в конверте не одна, а две, не две, а три бумажки; потом выхватывалось письмо, часто раздирался хранимый конверт и отбрасывался в хлам, а письмо живо повертывалось в руках, и, когда было прочтено, оно делалось в глазах Нади скользким, отвратительным… Операция происходила в молчании. В комнате, кроме беззубого и цыгана, присутствовала одна только Надя: старики остались возле сундуков и теперь, охраняемые папахой, ползали там по полу со слезами, собирали разбросанные вещи, оттаскивали их в груду. Ползут-ползут навстречу друг другу, столкнутся, посмотрят в лицо – и слезы закапают, потекут по морщинам… Павел в это время, как и Надя раньше, хотел пробраться к себе, но его, как и Надю, задержали; выпустили его лишь тогда, когда выворочена была всем нутром наизнанку вся крошечная Надина комнатка. Оба сыщика перешли к Павлу, а Надя одна так и осталась, застыв у окна, недвижимая, окостенелая. Ничего опасного не нашли и у Павла. Становилось ясно даже сыщикам, что весь обыск идет впустую или по ошибке, или по сознательно ложному доносу. Но для того, чтобы все проделать по форме, вскрыли в дому несколько половиц, заглянули и туда; под полом также было «место свято» – никаких провинностей. Залезли на чердак, ощупывали там печные трубы, даже вынимали наугад кирпичи, потом ковырялись в песке, засматривали за все перекладины – нет ничего, пусто кругом!
Детина в папахе уселся за стол, составил протокол, дал прочесть цыгану и беззубому; втроем подписались. Как будто все было покончено. Казалось бы, что теперь, после такого долгого и неудачного обыска, можно им было уходить восвояси, но сыщики и не думали трогаться, только расположились поближе к дверям, начали шепотком переговариваться между собой.
Засада!
– Опять тревога… отдыху нет… вздохнуть-то не дадут как следует…
Наконец он появился – с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке с подтяжками на плечах, волосы на голове дико были взъерошены. Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.
– Вы к кому?
– Сюда, к вам, – ответила резко папаха.
– Ко мне? – уставился на него Павел.
– Не к вам одному, а к целому дому… Да ты смотри билет-то, – оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Анны Евлампьевны.
Павел взял бумажку с печатью, заглянул, понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно, а губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:
– Кого же тут… Нас вот вся семья… Сейчас отец придет да Надежда… сестра…
В это время дверь отворилась и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:
– Немедленно произвести обыск… тщательный… Да всех задерживать, кто придет!
Позвали со двора двух солдат, – там их стояло человек пять-шесть, – и началось… Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, и на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшестка соскочил горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась – дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут было. Анна Евлампьевна, сама не своя, подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:
– Приданое… тридцать лет лежит… только в пасху да на рождество…
– Ладно, старуха, не лепечи, без тебя знаем, где что искать, – ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым, парень лет тридцати, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица. Подошел от стола и второй сыщик, низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.
– Скулит? – мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.
– А нехай поскулит, перестанет, – ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука.
В это время детина в папахе, видимо бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки «святых» церковных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.
– Ишь напихали, – приговаривал он, просматривая бегло всю эту ветхую, пыльную рухлядь.
– На-ко, чего-чего нет!
– А тут что, тетка? – крикнули они Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкафчик под киотами.
– И ничего тут… – залепетала Анна Евлампьевна. – Ничего, ей-богу, ничего, одна вода святая…
И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным фартуком размазывала она их по лицу, сквозь рыданья приговаривала:
– Одна вода… Одна святая… Иконку-то бросили… – нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.
– Ну-ну, потом соберешь, – грозно гаркнула папаха. – Ишь разревелась… Открывай шкаф!..
– Да, право, тут…
– Открывай, черт! Разломаю!
Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулочки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночки с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троице-Сергия – немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек, с мохнатыми грязными руками выбрасывает одну за другою драгоценные, так бережно хранимые ею вещицы. Анна Евлампьевна не могла дальше вынести, смертно бледнела, долго дрожала мелкой дрожью, и как стояла, так и грохнулась навзничь посреди юбок, узелков, картин, чайничков, святых вещичек из священного шкафчика…
– Ну, отлежишься, – прохрипела папаха, продолжая работу.
Павел кинулся было на кухню за водой.
– Эй, куда? – окликнул его беззубый.
– Воды… воды ей надо, – показал он на лежащую без памяти мать.
– Ничего, полежит…
– Как полежит? Я ей воды сейчас…
– Не ходи, говорю, аль не слышишь?! Вот кончу, вместе сходим. – И он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни:
– Иди, мол, иди…
Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.
– Ну, за водой-то, – обратился он к Павлу.
И когда они вышли в кухню, цыган поспешно начал обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все это быстро запихал в карман. Папаха рылась уже по шкатулкам, вытряхнув остатки из священного шкафчика; она тоже оглядывалась зорко и тоже что-то распихивала по карманам.
Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась… Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.
Надя догадалась быстро, в чем дело, – на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно передергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик, как вошел, так и обомлел.
«Воры!» – решил он про себя и закричал бы, если б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.
– Это ужасно… Что это?! Господи… господи… – шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны. – Так за что это? – вдруг спросил он и, поднявшись с кресел, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.
– Приказано, – отрубила папаха, – вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку…
– Да ищете что? – с сердцем спросил Петр Ильич.
– Что попадет, – урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой кофточки, юбки, платочки.
– Так, господи, что же это такое?! – сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова и бессильно упадая в кресла.
Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади. И так же, как возились они с юбками Анны Евлампьевны, кощунствовали теперь с письмами, книгами, записными книжками – все это пересматривали, кое-как и наспех перечитывали, пакостно улыбались, найдя какую-нибудь интимность в переписке. Но все это было не то, что искали сыщики. Желанное не попадало. Глубоко потрясенная, Надя прислонилась к подоконнику, выглядывала оттуда запуганными, растерянными глазами.
И так ей стало горько, что чуть не разрыдалась, а потом вдруг опустилась вся, ослабела, даже перестала эту острую боль ощущать и стояла как бы в забытьи, видела и не видела, как один за другим открывались ящики – ив стене и в столе, как оттуда выбрасывались пачки драгоценных для нее живых документов и как их, словно торговка яйца на пробе, сначала рассматривали на свет, видимо не доверяя тому, что в конверте не одна, а две, не две, а три бумажки; потом выхватывалось письмо, часто раздирался хранимый конверт и отбрасывался в хлам, а письмо живо повертывалось в руках, и, когда было прочтено, оно делалось в глазах Нади скользким, отвратительным… Операция происходила в молчании. В комнате, кроме беззубого и цыгана, присутствовала одна только Надя: старики остались возле сундуков и теперь, охраняемые папахой, ползали там по полу со слезами, собирали разбросанные вещи, оттаскивали их в груду. Ползут-ползут навстречу друг другу, столкнутся, посмотрят в лицо – и слезы закапают, потекут по морщинам… Павел в это время, как и Надя раньше, хотел пробраться к себе, но его, как и Надю, задержали; выпустили его лишь тогда, когда выворочена была всем нутром наизнанку вся крошечная Надина комнатка. Оба сыщика перешли к Павлу, а Надя одна так и осталась, застыв у окна, недвижимая, окостенелая. Ничего опасного не нашли и у Павла. Становилось ясно даже сыщикам, что весь обыск идет впустую или по ошибке, или по сознательно ложному доносу. Но для того, чтобы все проделать по форме, вскрыли в дому несколько половиц, заглянули и туда; под полом также было «место свято» – никаких провинностей. Залезли на чердак, ощупывали там печные трубы, даже вынимали наугад кирпичи, потом ковырялись в песке, засматривали за все перекладины – нет ничего, пусто кругом!
Детина в папахе уселся за стол, составил протокол, дал прочесть цыгану и беззубому; втроем подписались. Как будто все было покончено. Казалось бы, что теперь, после такого долгого и неудачного обыска, можно им было уходить восвояси, но сыщики и не думали трогаться, только расположились поближе к дверям, начали шепотком переговариваться между собой.
Засада!