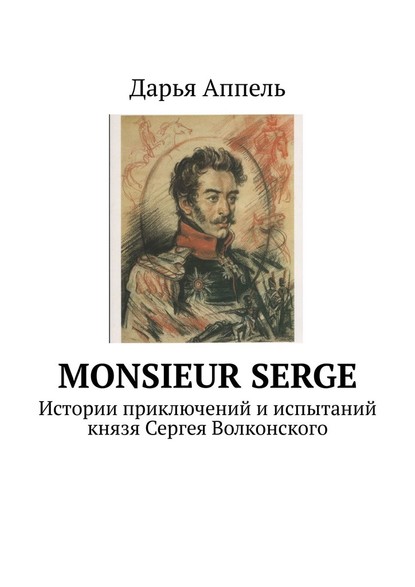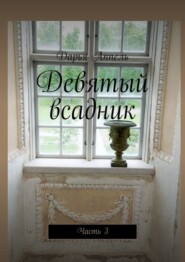По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Monsieur Serge. Истории приключений и испытаний князя Сергея Волконского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Серж пользовался славой весьма своевольного молодого человека, чьи выходки подчас превосходили все, что совершила на их памяти гвардейская молодежь. Все рассказы о своем брате Софи почти всегда предваряла такой фразой: «Ты даже не представляешь, что вытворил мой братик вчера», а далее описывала очередную «мирную забаву», которая должна была вызвать в Кристофе праведный ужас. Однако он видел – за маской повесы «с придурью» скрывается очень холодный и рассудочный человек, которого не так-то просто свести с ума и соблазнить. Не злой и не жестокий – иначе непременно стал бы бретером. И все его проказы не выходили за рамки тех, которые может себе позволить честный человек. Вообще, Кристоф полагал, что младший из Волконских куда как толковее его напыщенных старших братьев. Во время войны все его «подвиги» забылись государем – или он, как всегда, сделал вид, что забыл. И, видно, мирное время наскучило Сержу, раз он просится туда, откуда нынче все стараются уехать. И что он этим добивается? Государь же узнает – через какого-нибудь «доброжелателя», в коих всегда был достаток. В такое время, как нынешнее, когда все вне себя от тревоги, боятся собственной тени, одним взыском Серж не ограничится – его поступок будет представлен как измена. Еще не забыли, как он защищал этого… как его… словом, одного из преданных бонапартовых сподвижников… И то, что в Париже давеча он пренебрегал визитами к роялистам ради ужинов у Евгения Богарне. В глазах света Волконский-младший – отчаянный бонапартист, едва ли не якобинец. А тут еще и эта поездка… Ведь скажут, что он эдак нарочно, дабы отпраздновать триумф своего кумира… Но… Ежели Волконский – эдакий оригинал и авантюрист, то зачем ему нужна эта виза? Не проще ли самому под чужим именем пробраться в Париж. Нет, тут кроется дело посложнее…
– Послушайте, князь, – проговорил Кристоф, немало не скрывая своего великого изумления. – Вам не хуже моего известно, что оттуда бегут все иностранцы всякого разбора и подданства. Вы же, напротив, стремитесь во Францию. Зачем вам это?
…«Так и есть. Он не даст мне визу, ибо боится последствий. Для себя, конечно… Не так-то прочно место посланника, а здесь он устроился очень даже хорошо», – подумал Серж, стараясь сохранить спокойствие, оставившее его собеседника. Нет, взволнованный и разгневанный Ливен – то еще зрелище, право слово… Глаза его, обычно спокойные, темно-синие, нынче – почти черные и метают такие молнии, что сам Зевс-громовержец бы позавидовал. Хорошо, что в рабочем кабинете у него нет оружия – вся коллекция перекочевала в его отдельную приемную комнату. А то сейчас бы взял свою «Хоакину», роскошную саблю дамасской стали, на которую Серж втайне поглядывал с завистью и вожделением – и начал бы крушить с ее помощью все это милое убранство кабинета. Вид собеседника его нимало не испугал – напротив, показалось, что теперь-то он видит Кристофа фон Ливена в его настоящем обличии. И оно нимало не сочеталось с прежней маской невозмутимого и сухого остзейца, который, казалось, вообще не склонен ни к сильным чувствам, ни к мыслям, выходящим за рамки обыденности. Надо сказать, сей настоящий облик Сержу был гораздо симпатичнее привычного.
– Граф, поймите, – Волконский заговорил тихо и умиротворяюще, чтобы не раззадорить своего собеседника еще пуще. – Именно из-за, что все оттуда бегут, мне и нужно там оказаться.
Кристоф подошел к нему поближе. Настолько, что князь смог почувствовать запах его духов, пачули, как всегда, и сандал. И почему-то Серж ощутил, будто его обдает теплом, словно бы он стоял перед церковным подсвечником с сотней горящих восковых свечей.
– Вам выдали особое поручение? – произнес он с прежде не заметным в его идеальной французской речи немецким акцентом.
Волконский уклончиво произнес:
– В Париже будут происходить события, которые мне необходимо увидеть своими глазами с тем, чтобы доложить о том своему начальству и лично государю.
…Ливен смог прийти в себя. Пожалуй, последнее время подобные срывы случаются все чаще. Хорошо, что только наедине… Интересно, если у него, как давеча, полыхнет огонь в правой руке? Почему-то казалось, что Серж поймет и ничуть не удивится. Он же все-таки брат своей сестры. Хоть и не таков, как она. С другой стороны, но при этом послабее. Впрочем, мало кто из тех, что нынче обретаются в телах, может противостоять Софии… Пожалуй, только он и остался. Тот, Девятый, уже мало что может. Силы потихоньку покидают его. И вскоре граф останется один. Как всегда. Но это в сторону… Итак, парень умеет говорить уклончиво – прямо как сестра, научила она его, что ли, или сам перенял? Может, это фамильное свойство, кто знает… Но Кристоф уже привык к подобной уклончивости и всегда умел читать меж строк.
– Я понял, – произнес граф прежним голосом. – Но мой долг – вас предупредить. Фортуна может оказаться не на вашей стороне. И государь составит о вас самое неблагоприятное мнение, ежели окажется, что вы действовали самовольно.
…Ну и хитер же этот Ливен! Его супруга по сравнению с ним – просто наивная пансионерка. Впрочем, кажется, муж научил ее некоторым азам… Теперь-то стало окончательно понятно, что Софи нашла в «этом немце», помимо стати, которой, к слову, обладали многие мужчины в свете. Сестра всегда любила умных мужчин, коих, по ее признанию, днем с огнем не сыскать в Петербурге, за исключением трех человек. И судя по всему, ее любовник в эту троицу входит. И место свое занимает совсем не зря. Ведь догадался же о поручении! И скорее всего, у него нынче на столе лежит предписание выдать князю Волконскому визу во Францию по его первому требованию. Но нет. Граф его испытывает, следит за реакцией, чтобы до конца убедиться в его намерениях.
– Я надеюсь быть полезным Его Величеству, – заговорил Серж. – И соберу все необходимые сведения.
– Не скрою от вас, что война непременно состоится. Армия вся готова присягнуть Бонапарту, – Ливен чуть побледнел. – В таком случае, реванш неизбежен… В Париж войдут войска. Все дипломатические сношения с Францией будут оборваны, письма и депеши перестанут приходить. Что будет с вами потом?
«Я похож на труса?» – чуть ли не выкрикнул запальчиво Серж. – «За кого он меня принимает? Кажется, повода я не давал…»
– В таком случае я последую туда, куда направится королевский двор, – ответил он, опустив глаза.
«Конечно… А что он еще скажет?» – подумал Христофор. – «И вполне возможно, его увезут насильно. Впрочем, с него станется остаться нелегалом».
– Итак, как видите, меня от моего решения не уговорить, – слегка усмехнулся князь.
– Зачем же вам моя виза? Здесь она вам не нужна, – напрямую спросил граф. Он знал ответ на этот вопрос. И Серж это понимал.
– Чтобы не подвергаться преследованиям как лицо, пребывающее в Париже на нелегальных основаниях.
– Думаю, этот паспорт все только усугубит… – вздохнул Кристоф. – Но буду с вами откровенен – о вашем задании мне не докладывал никто. Я не уверен, действуете ли вы по приказанию или по собственному почину.
«Эх, жалко, я сжег это письмо Пьера», – подумал Серж. – «Но зачем мне надо было его сжигать? Показал бы Ливену – и не было бы всей этой канители. Ему бы без вопросов подписали все бумаги, которые требуются. А то сей Ливен, небось, из принципа будет продолжать игру… Опять вспомнилось, что про него говорила сестра: «Каковы его недостатки? Упрямство… Его слово должно всегда оставаться последним – и не только в спорах». Нынче есть лишний повод убедиться в его правоте.
– Право слово, если бы у меня была возможность подтвердить то, что было передано мне из уст в уста, я бы это сделал. Так что придется вам, граф, верить мне на слово.
Христофор вздохнул. Осталось сказать только:
– Что ж, видно, вас никак не уговоришь. Посему будь по-вашему.
Он нашел паспорт Сержа, удобно лежавший в правом ящике стола, нарочито медленно набрал чернил и поставил размашистую подпись внизу.
– Благодарю вас, – сказал князь, следя за движениями своего визави.
– Но помните, что я обязан доложить государю о том, что мне пришлось вас выпустить вопреки всяческим уговорам. Поэтому, ежели вас постигнет монаршье неудовольствие, прошу вас меня ни в чем не упрекать, – граф откинулся на спинку кресла.
Серж кончиками пальцев придвинул к себе паспорт.
– Конечно же, Христофор Андреевич, – произнес он.
Повисла неловкая пауза, после которой Серж посчитал нужным распрощаться. Граф сказал только:
– С Богом… Надеюсь, у вас все получится.
После ухода князя Кристоф долго смотрел на закрывшуюся дверь. Надо было встать, что-то делать, опять кому-то приказывать, повелевать, – а не хотелось. Опять стало тревожно на душе. Кто знает, вернется ли Волконский обратно? И если да, то не рухнет ли после этого приключения вся его карьера? Времена, когда за успехи в тайной дипломатии давали высокие чины и награды, давно миновали. Напротив, за такие поручения мало кто нынче брался. Лишь те, кому нечего терять, или же отдельные особо отчаянные личности. Зачем же Сержу все это нужно? Впрочем, было понятно, почему. Потому что он таков, каков есть. «Я даже возьму его в Рыцари… Если все получится», – рассеянно подумал Кристоф. Почему-то он не сомневался в том, что вновь увидит Волконского. Но не тогда, когда по проторенной дорожке сюда снова прибегут Бурбоны, а несколько попозже, так скажем…
Чужая свадьба
Июнь-сентябрь 1824 г.
«Она была слишком хороша для этого мира», – строки старинной эпитафии вплетались в нежную ткань золотых облаков, нежно плывущих по закатному небу. Слишком много нежной грусти в этих словах – грусти, обращенной к той, что случайно открыла страницы книги. И слишком уж много правды. Казалось, автор – очередной, мало известный, сгинувший еще в прошлом веке, выпустив вот эту небольшую книжку, названную так, как в ту пору было модно называть романы: «Аглая, или хрупкая добродетель» или же с равным успехом «Матильда, или попранное милосердие» – обращался к ней самой, Элен Раевской, через многие годы. Слишком хороша… «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой», – так обронил экспромтом, словно невзначай, вот этот молодой и пылкий поэт, волочащийся за ними всеми сразу – за вычетом младшей, Софи, еще увлеченной играющей в куклы. Поэт сей, возбуждавший необычайный интерес Мари, третьей дочери семейства, оставил Элен равнодушной. Ее вообще многое оставляло равнодушной из того, что интересовало ее сестру-погодку. Но подметил он это в точку. Более того, сама девушка и не любила особо проводить время с семейством. Вот и нынче, в предвечерье, она спряталась за буйно разросшимися кустами сирени, взяв с собой эту глупую книгу. В самом деле, переводить ее не стоит даже… Пустота содержания книги давала Элен повод насладиться тихим, приятным вечером, и даже густой, обморочный запах лиловых соцветьев не действовал ей на нервы, не вызывал привычной головной боли.
«Слишком хороша для этого мира», надо же… «Приметно вянет», «чахоточная дева», – ее здоровье, точнее, отсутствие такового давно заклеймило вторую из сестер Раевских. От нее ни родители, ни врачи особо не скрывали, что считают ее смертельно больной и дают ей не более двух лет жизни. Причины – худоба, не красящая никого, бледность с внезапными вспышками румянца, да эти приступы кашля и удушья, всегда внезапные, настигающие ее по вечерам, а то и заставляющие пробудиться ночью от паники. Элен и без объяснений знала, каково ждет ее будущего – докашляется до кровавой мокроты, потеряет все силы, станет неподвижно лежать в кресле или на диване, превращаясь в скелет, а затем ее наконец-то положат в гроб, обряженную в подвенечное, как пристало ее девичьему статусу, платье, отпоют в белой церковке, виднеющейся из окон их гостиной, закопают в землю и забудут – наверное, навсегда. И поэтому Элен, в отличие от ее сверстниц, никогда не думала о будущем – что толку, если его нет, если она, по словам вездесущего сочинителя, «приметно вянет» и, как вот эта пышная сирень, отцветет через считанные годы, навсегда оставшись двадцатилетней? В будущем, приуготовленном для ее сестер, Элен последнее время не видела ничего, что соблазняло бы ее, заставляя завидовать тем, кто останется после. В самом деле, то же замужество – что толку в этом? После пышной свадьбы – такой, какую недавно сыграли для Катрин, их самой старшей сестры, обвенчавшейся с завидным женихом графом Мишелем Орловым – наступают будни, такие, в каких давно погрязла маменька. Хозяйство, вечный надзор над всеми – дворовыми, гувернерами, собственными детьми и даже мужем. Годы идут и сливаются воедино, утро сменяется вечером, жара – морозами, посевная – жатвой, утро – вечером… Беды и радости приходят, внося разнообразие в эту бесконечную рутину, на краткий миг переворачивая все с ног на голову, а потом все постепенно входит в свою колею, прибавляя, правда, воспоминаний – которые тоже рано или поздно пропадают. Когда-то она поделилась соображениями с младшей сестрой – полной ее противоположностью, веселой, острой на язык, резвой и не склонной к излишней задумчивости Мари. Та только скорчила умильное личико: «У, Оссиан какой-то… Послушай-ка лучше вот эту кавантину, забудешь о своей меланхолии». Но, хотя Элен и отдавала дань певческим талантам сестренки, грусть оставалась при ней.
Из раздумий Элен вывел голос маменьки, как всегда, высокий и строгий – закрой уши ладонями и то расслышишь каждую его нотку:
– Софи! Где же вы запропастились? И не дозовешься эту девчонку… Софи! Немедленно домой, а иначе вы будете наказаны! Софи! Откликнетесь, а то отцу скажу!
Элен усмехнулась. Она-то знала, что ее маленькая сестрица спряталась в специально построенном в гуще сада домике и намеренно не идет на зов матери. Вскоре к голосу Софьи Алексеевны присоединился мелодичный зов гувернантки. Надобно, конечно, помочь матери, уже сделавшей решительный шаг с порога, но Элен не торопится покидать свое убежище. Она хорошо понимает младшую сестру – в самом деле, в их громком семействе тем, кто склонен к спокойному времяпрепровождению, приходится искать убежище в самых неожиданных уголках дома и сада. Маменьке сие не нравится – она любит, когда все и вся на виду, вышколенно построенные перед ней по ранжиру.
Сестра все никак не откликается, и Элен начинает беспокоиться. В самом деле, час уже поздний, солнце зашло, и девочке пора в постель. Тревога заставляет грудь ее сжиматься. Еще пара минут – и начнется привычный приступ. Девушка ослабляет косынку на груди, но слишком поздно – воздух уже застрял в горле, его надо протолкнуть вниз, и она невольно закашливается. Тут же перед ней раздвигаются зеленые ветви, и показывается маменька.
– И вы здесь, Элен? – строго говорит она. – Так вот с кого Софи берет дурной пример! Как старшая, вы бы должны…
Тут достопочтенная Софья Алексеевна, наконец, замечает, в каком состоянии находится ее дочь и прерывается на пол-слове, резко меняя тему:
– Немедленно домой, ma fille! Опять шаль забыли, а я же говорила, что вечерами нынче холодно! Не хватало вам снова разболеться, да еще накануне собственных именин.
– Я… пойду… за Софи… – силится сказать Элен сквозь приступы кашля.
– Вы пойдете домой! – мать твердо берет девушку за запястье и удаляется с ней к крыльцу, перед этим звонко бросив гувернантке, мадемуазель Мустье: «Ищите близ яблонь, в этом ее… шалаше!»
Дома воздух теплее, но при этом душно, и Элен чуть ли не теряет сознание в этом окружении. Мать приказывает ей лечь на канапе в нижней гостиной, зная уже, что она не будет в силах самостоятельно подняться. Лежа дышать тяжелее, и девушка приподнимается на подушки. Софья Алексеевна молча смотрит на нее, привычно крестит ее и себя и вздыхает. Ей уже сказали – доктор Браницких, мистер Хатчинсон, чьему суждению она не может не доверять – что дальше будет только хуже. Но куда еще хуже-то?.. Сердце болит за эту девочку, и пусть даме известно, что у других только хуже, не может не задаваться: «За что-то это невинное дитя наказано?» Она приобнимает Элен, та приникает к ее плечу и закрывает глаза. Кажется, постепенно приступ отпускает. Где-то вдалеке слышны голоса Софи и ее гувернантки: «Я не хочу спать! Не пойду!», «Нет, нет, вы пойдете спать и с сих пор в этот угол сада не заходите!». Задумчивые ноты ноктюрна раздаются из комнаты наверху, служившей одновременно библиотекой и залом для занятий музыкой. Конечно, Мари… Кто же может еще так играть?
– Все хорошо, maman, – Элен поднимает на мать свои синие глаза – и в кого она такая-то, в их темноволосом и черноглазом семействе? Возможно, пошла в свою бабку по матери, умершую в родах и навеки тридцатилетнюю. Софья Алексеевна собственную мать не помнила, портретов от нее не осталось, но сам факт краткости ее жизни вводил в тоску. Равно как и то, что судьба ее внучки и тезки складывалась зеркальным отражением ее жизни.
– Вот и слава Богу, дитя мое, – мать снова крестит и обнимает дочь, украдкой щупая щеки – нет ли жара, вечного спутника этой болезни? На сей раз приступ был короче обыкновенного, да и легче тоже. Так что авось обойдется.
– Но больше без шали выходить не вздумайте! – голос Софьи Алексеевны становится более строгим и жестким. – Вам, кажется, не пять лет, чтобы я об этом постоянно напоминала!
– Хорошо, маменька, – говорит Элен. Слабость мешает ей думать о чем-то другом, кроме как о сне. Она не спеша встает и, опираясь на руку матери, поднимается вверх. Заглядывают в музыкальную комнату, и матушка делает красноречивый жест в адрес Мари, увлекшейся музицированием – ноктюрн уже сменился развеселой мазуркой. Та, поняв, в каком состоянии сестра, прерывает игру на половине ноты, бросив досадливый взгляд в адрес Элен. Той даже кажется, что Мари ворчит: «И снова грусть, и снова черная меланхолия… Надоело!»