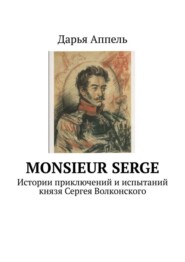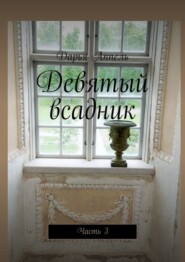По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дети Балтии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Верю, что довольно хороший, – улыбнулся Жанно.
– Мой девиз «Arbeit und Disziplin» («Труд и дисциплина»), – Ливен говорил так, словно читал с листа. – Я не терплю халатности, неточности, опозданий и отгулов по неуважительной причине. Что касается моего распорядка дня. Я встаю в шесть и к семи уже на Захарьевской – если у меня нет доклада во дворце. Обычно к государю я езжу в десять утра. Это значит, что в этот промежуток времени вы должны предоставить мне готовый доклад или документы на подпись. С десяти и до обеда я у государя. Потом возвращаюсь в Канцелярию. В зависимости от количества дел мой день кончается либо в восемь, либо позже или чуть раньше. Вас могу держать при себе не до конца.
– Меня всё устраивает, если на меня не будут кричать и махать кулаками, – улыбнулся Лёвенштерн.
Все рассмеялись.
– Ну, это явно не про Христофора, – сказал Долгоруков.
– Очень часто я езжу с государем в разные места, – продолжил Ливен. – На маневры или вот, как недавно, – в боевой поход. Иногда во время этих поездок вы будете сопровождать меня. Иногда – нет. Я могу вас откомандировать куда-нибудь отдельно.
– У него система. Всё налажено, – ответил князь.
– Я уже десять лет этим занимаюсь, – вздохнул Кристоф. – Чаще – сам. Мне назначали в адъютанты всяких болванов, которые не умеют понять смысл простейшего указа по армии…
– Я постараюсь не быть болваном, – усмехнулся барон, а потом добавил, вмиг осмелев:
– А какова же моя будущность?
– Вы служите, а потом всё узнаете, – отвечал за графа Волконский.
– Скажу одно: если вам так захочется придворной жизни, то флигель-адъютантство можно очень легко достать, – произнёс Долгоруков.
– Господа, что мне для вас сделать? – оживлённо спросил Жанно.
– Будьте нам верным, этого с вас достаточно, – заключил Кристоф.
– Jawohl, – ответил Лёвенштерн с лёгкой улыбкой.
Потом он поехал к Марину, но застал его не одного. У того собрались практически все. Хозяин выглядел всё ещё довольно немощным от ран, но продемонстрировал золотую шпагу, данную ему за храбрость, и сказал:
– Ну, за это орудие мне пришлось месяц проваляться в госпитале… И зачем же гордиться храбростью, когда случился такой позор?
Потом прибыл Аркадий Суворов – «Бижу», которого собравшиеся начали упрекать в том, что он опять позабыл о жене, а та ему, быть может, изменяет с неким ami.
– Да знаю я, – прогремел граф на всю гостиную. – Рога у меня, как у того сохатого, которого мы тут давеча завалили…
– Что же хорошего, стыдиться надобно, – откликнулся Алекс.
– Видно, что ты не охотник. У сохатого большие рога – первый признак мужественности.
– И неизбежная деталь экстерьера любого супруга, – добавил Марин.
– Да? А я-то думал, что символ мужества выглядит иначе, – проговорил Алекс.
Все расхохотались, ибо были уже навеселе.
– Так, значит, все в сборе. И я от эскулапов убежал! – сказал Марин. – И Аркаша от жены, хотя и зря. И Лев. И Митя. И Рибопьер. Вот Костуя, жалко, нет…
После этих слов в дверь вошел Воронцов. Все аж ахнули.
– Ты же за морем был?! – воскликнул Алекс, глядя на румяное лицо друга и немного потерянный взгляд. – И сестру замуж выдаёшь?
– Лондон разрушили? – подал голос Арсеньев.
– Тише, – проговорил тот, которого все здесь звали Костуем, – Кэтти пока девица. И не выходит замуж.
– Это ещё почему? – удивился Нарышкин. – Разрешение же дали.
– Если вкратце – я уговорил отца подождать с браком. – Майк, казалось, не желал много болтать на эту тему.
– А сестра как? – полюбопытствовал Алекс.
– Кэтти сама меня упросила. И, тем более, у неё опять кровь горлом идет – хороша невеста, – краем рта усмехнулся Воронцов.
– Боже мой… Так кузина помирает? – помрачнел Лев.
– Если бы помирала, меня бы здесь не было, – объявил граф. Потом он устремился в объятья друзей.
– Так ты спас её от постылого венца? – прошептал ему на ухо Бенкендорф.
Майк молча кивнул и отвечал:
– Только без подробностей, ладно? И, тем более, не спас. Просто задержал дела.
Сели опять пить и закусывать. «Асти» лилось рекой, еда была вкусной и сочной – пальчики оближешь, все гремели приборами и звенели стаканами, болтая одновременно и сразу. Марин рассказывал, как его всего распотрошили доктора, но второй пули, угодившей в грудь, не нашли, Алекс морщился и просил сменить тему, например, поговорить о поэзии, на что Марин жаловался, что «Дела его весьма плохи/Не сочиняются стихи», и, видно, угодившая в его «голову садовую» картечь отбила ту часть мозга, которая отвечала за написание лирики. Рибопьер, изящный юноша, служил музыкальным сопровождением по собственному почину, и Аркадий пересказывал по десятому кругу охотничьи байки, в пылу случайно погнув два ножа и вилку.
– У меня и так мало посуды, Бижу! – взмолился Серж, увидев, что осталось от приборов. – Скоро, как дикарь, руками буду есть!
– Так ближе к природе, – отозвался Арсеньев.
– Ближе ли, далече ли, но прямо мистика какая-то – недавно у меня были ложки, вилки и всё такое, а тут нечем есть, приносит мой слуга одну сиротливую ложку и говорит: «Всё, барин, кончилась у нас посуда, надо новую покупать».
– Да твой слуга на базар носит, Петрарк, а ты на мистику всё списываешь, – улыбнулся Воронцов. – Нет, поэтом ты был, поэтом и помрешь, и никакие раны тебя не исправят.
– Воруют, да, – констатировал Алекс. – Но что толку в этих вилках? Их кто-то покупает?
– Я бы выставил на продажу вилки, погнутые нашим Бижу! – воскликнул Лёвенштерн, поддавшись общему веселью. – Это реликвия.
– Сокровище, да, – откликнулся Воронцов, и все вновь расхохотались.
Потом слово взял Алекс. Он рассказал, как они с Воронцовым брали Гамельн, и Георг фон дер Бригген, вовремя вспомнивший легенду, помог разработать стратегический план.
– Штабная голова, – одобряюще произнес Суворов.
– Вон штабная голова, – Алекс, к удивлению Лёвенштерна, откуда-то уже знал о назначении его. Верно, сестра доложила.
– Почему штабная? – спросил Воронцов, разрезая жаркое.