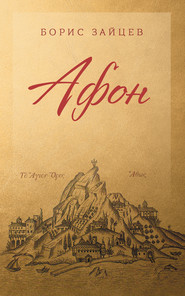По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В книге же бытия самого Павла Егорыча под 12 октября записано рукой Марии Павловны: «Сего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в 1 ч. пополуночи».
В свое время он обижался на «Антошу» за советы меньше есть. Может быть, особенно вкусную кулебяку спекла ему Евгения Яковлевна, или гусь был уж очень хорош, или еще что, только внезапно случилось у него «ущемление кишки». «Антоши» под рукой не было. Хватились поздно, везли со станции по рытвинам, в российской осени, по слякоти. В Москве сделали операцию, но было поздно. Павел Егорыч очень мучился. Конечно, был бы в Мелихове Антон Павлович, он бы не допустил до омертвения кишки. Но его именно не было, и у себя в Ялте он тяжело переживал эту смерть.
Кончилась долгая, тоже тяжелая его история с отцом. Многое тут приходилось преодолевать. И хотя держался он с ним всегда почтительно, но любви не было. Даже и простить не все мог. Теперь подошла смерть. «Чужая душа потемки» – слова самого Чехова. Простил или не простил? Ничего он не говорит об этом. Но по совокупности думается, что смерть сразу все унесла: давнее, горькое, просто унесла в потрясении.
«…Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Что мать?»
«Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни» – это не напишет человек, у которого за пазухой камень. А «течение жизни» кончалось. Чрез несколько дней уже пишет он Суворину, что, вероятно, продадут Мелихово.
Здравый смысл был за это. Раз Антону Павловичу нельзя жить на севере, тогда проще всего устроиться с матерью в Крыму.
* * *
29 июня 1899 года, в 2 ч. дня Чехов написал Марии Павловне: «Был сейчас молодой Зайцев (…). Мелихово очень ему понравилось. Очевидно, Мелихово очень хорошее имение и жаль, что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50».
Да, это я ездил в Мелихово по поручению отца, по газетному объявлению (выбрал именно Чехова потому, что любил уже его и хотел посмотреть), – отец тогда покупал имение под Москвой. Это я Чехова в Мелихове не застал, к самому Мелихову, как имению, остался довольно равнодушен, но все, что в нем было чеховского, начиная с Марии Павловны, через Евгению Яковлевну и приятельницу их Хотяинцеву, веселую художницу с узлом волос на голове, – все такое понравилось очень. Пусть там же почувствовал я, что вряд ли мы купим это серенькое именьице на ровном месте, без всякой привлекательности. Все-таки после веселого завтрака на террасе с хлопающей от ветра парусиной я ходил (из вежливости, от смущения?) с каким-то старостой осматривать владение. Видел флигелек Чехова, кажется, там было что-то вроде вышки, откуда он любил рассматривать звезды. Да еще уголок с темной аллеей в саду – тоже хорошо. Напомнило декорацию первого действия «Чайки».
Рядом село Мелихово. Мы были и там. Школу в селе этом выстроил Чехов. Церковь он украшал. Крестьян он лечил. Проводник мой не так был многоречив, все же рассказывал, и в самом тоне того, что говорил, было столько почтения к Чехову… Да, теперь еще больше хотелось его увидеть. Вернувшись, я спросил у Марии Павловны адрес его в Москве. Если в ней была капля наблюдательности, она, конечно, заметила, что это поклонник, а не покупатель.
И поклонник действительно позвонил у двери квартиры на Малой Дмитровке, в жаркий солнечный Петров день, и ему отворил худощавый человек в пенсне, с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничок пиджака поднят, будто ему холодно и он кутается, а была попросту жара. Негромко, баском сказал:
– Пожалуйте, пожалуйте…
И верно, что сразу же он очень понравился. Чем именно? Разве это можно объяснить? Выражением глаз, формой лица, улыбкой, вообще всем. Не помню, что я говорил ему о Мелихове. Но смущенную мою восторженность он понял так, что Мелихово такое особенное, за него надо просить не 15–20 тысяч, как делала Мария Павловна, а 40–50.
Нет, это была любовь не к Мелихову, а к нему самому. Мой грех состоял в том, что я напрасно отнимал у него время. Но меня вела любовь – быть может, в ней некоторое оправдание. Любовь привела меня к нему в тот день Апостолов Петра и Павла, когда, по его же желанию, Мария Павловна и «мамаша» служили панихиду по скончавшемуся рабу Божию Павлу (день его именин), уводившему теперь их всех из Мелихова.
Любовь Марии Павловны собрала все его письма, даже нежные. Но для кого неважные, а для кого и важные. В том же письме от 29 июня есть такая фраза:
«Был я сегодня в Новодевичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась».
Значит, в то самое утро, когда я к нему явился, он только что вернулся из Новодевичьего.
Ему и раньше там нравилось, теперь связывала и могила отца. Думал ли он, что и ему самому скоро придется здесь лечь? Этого я не знаю. Как не знал тогда и того, что в летописи литературы нашей сохранится – для меня лишь важный – день первой моей встречи с Чеховым.
Мария Павловна продала Мелихово тем же летом. Но не нам.
Художественный театр
Началось все это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста, – просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улицу. Это барский дом, принадлежавший Шереметьевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.
Константин Сергеич Алексеев, актер-любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер, – это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва всё робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.
С весны 97-го года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, все же летом 98-го года репетировали уже к зимнему сезону.
Чехов знал и Алексеева-Станиславского, и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый, современный автор.
Немирович знал «Чайку» и раньше, очень ценил и хотел ее для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.
«Чайку» не он один оценил, несмотря на ее неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.
Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.
При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» – слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал: не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12 мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. “Чайка” единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».
На этот раз Чехов ответил по-другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить ее можно.
Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «к стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в высших ее областях. Но все-таки занялся мизансценами непонятой (и, значит, нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского – через силу и наугад – оказался первостатейным.
Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять ее судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего клуба в ту же самую минуту, что и Лужского – Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других (Артем позже вошел в состав).
Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинавшую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.
В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг, в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.
За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции “Фед. Иоанн.”; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы “эту Ирину”».
Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато» можно, только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось.
Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мелихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет об их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».
«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура. Дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на нее все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.
Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но все-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.
Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.
Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно, Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так, как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.
Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная, – еще шаг, и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось: зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в исступление.
Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».
В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» – они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы, и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон, и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».
Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами – страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.
«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем, Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневский – бывший товарищ по гимназии в Таганроге, – кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на “Чайке” и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о “Чайке”, были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).
Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями: Книппер заболела и некем было заменить ее, но потом все наладилось и успех оказался огромным.
Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.
Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Все это происходило именно в России.
* * *
Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича – тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.
В свое время он обижался на «Антошу» за советы меньше есть. Может быть, особенно вкусную кулебяку спекла ему Евгения Яковлевна, или гусь был уж очень хорош, или еще что, только внезапно случилось у него «ущемление кишки». «Антоши» под рукой не было. Хватились поздно, везли со станции по рытвинам, в российской осени, по слякоти. В Москве сделали операцию, но было поздно. Павел Егорыч очень мучился. Конечно, был бы в Мелихове Антон Павлович, он бы не допустил до омертвения кишки. Но его именно не было, и у себя в Ялте он тяжело переживал эту смерть.
Кончилась долгая, тоже тяжелая его история с отцом. Многое тут приходилось преодолевать. И хотя держался он с ним всегда почтительно, но любви не было. Даже и простить не все мог. Теперь подошла смерть. «Чужая душа потемки» – слова самого Чехова. Простил или не простил? Ничего он не говорит об этом. Но по совокупности думается, что смерть сразу все унесла: давнее, горькое, просто унесла в потрясении.
«…Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Что мать?»
«Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни» – это не напишет человек, у которого за пазухой камень. А «течение жизни» кончалось. Чрез несколько дней уже пишет он Суворину, что, вероятно, продадут Мелихово.
Здравый смысл был за это. Раз Антону Павловичу нельзя жить на севере, тогда проще всего устроиться с матерью в Крыму.
* * *
29 июня 1899 года, в 2 ч. дня Чехов написал Марии Павловне: «Был сейчас молодой Зайцев (…). Мелихово очень ему понравилось. Очевидно, Мелихово очень хорошее имение и жаль, что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50».
Да, это я ездил в Мелихово по поручению отца, по газетному объявлению (выбрал именно Чехова потому, что любил уже его и хотел посмотреть), – отец тогда покупал имение под Москвой. Это я Чехова в Мелихове не застал, к самому Мелихову, как имению, остался довольно равнодушен, но все, что в нем было чеховского, начиная с Марии Павловны, через Евгению Яковлевну и приятельницу их Хотяинцеву, веселую художницу с узлом волос на голове, – все такое понравилось очень. Пусть там же почувствовал я, что вряд ли мы купим это серенькое именьице на ровном месте, без всякой привлекательности. Все-таки после веселого завтрака на террасе с хлопающей от ветра парусиной я ходил (из вежливости, от смущения?) с каким-то старостой осматривать владение. Видел флигелек Чехова, кажется, там было что-то вроде вышки, откуда он любил рассматривать звезды. Да еще уголок с темной аллеей в саду – тоже хорошо. Напомнило декорацию первого действия «Чайки».
Рядом село Мелихово. Мы были и там. Школу в селе этом выстроил Чехов. Церковь он украшал. Крестьян он лечил. Проводник мой не так был многоречив, все же рассказывал, и в самом тоне того, что говорил, было столько почтения к Чехову… Да, теперь еще больше хотелось его увидеть. Вернувшись, я спросил у Марии Павловны адрес его в Москве. Если в ней была капля наблюдательности, она, конечно, заметила, что это поклонник, а не покупатель.
И поклонник действительно позвонил у двери квартиры на Малой Дмитровке, в жаркий солнечный Петров день, и ему отворил худощавый человек в пенсне, с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничок пиджака поднят, будто ему холодно и он кутается, а была попросту жара. Негромко, баском сказал:
– Пожалуйте, пожалуйте…
И верно, что сразу же он очень понравился. Чем именно? Разве это можно объяснить? Выражением глаз, формой лица, улыбкой, вообще всем. Не помню, что я говорил ему о Мелихове. Но смущенную мою восторженность он понял так, что Мелихово такое особенное, за него надо просить не 15–20 тысяч, как делала Мария Павловна, а 40–50.
Нет, это была любовь не к Мелихову, а к нему самому. Мой грех состоял в том, что я напрасно отнимал у него время. Но меня вела любовь – быть может, в ней некоторое оправдание. Любовь привела меня к нему в тот день Апостолов Петра и Павла, когда, по его же желанию, Мария Павловна и «мамаша» служили панихиду по скончавшемуся рабу Божию Павлу (день его именин), уводившему теперь их всех из Мелихова.
Любовь Марии Павловны собрала все его письма, даже нежные. Но для кого неважные, а для кого и важные. В том же письме от 29 июня есть такая фраза:
«Был я сегодня в Новодевичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась».
Значит, в то самое утро, когда я к нему явился, он только что вернулся из Новодевичьего.
Ему и раньше там нравилось, теперь связывала и могила отца. Думал ли он, что и ему самому скоро придется здесь лечь? Этого я не знаю. Как не знал тогда и того, что в летописи литературы нашей сохранится – для меня лишь важный – день первой моей встречи с Чеховым.
Мария Павловна продала Мелихово тем же летом. Но не нам.
Художественный театр
Началось все это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста, – просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улицу. Это барский дом, принадлежавший Шереметьевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.
Константин Сергеич Алексеев, актер-любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер, – это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва всё робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.
С весны 97-го года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, все же летом 98-го года репетировали уже к зимнему сезону.
Чехов знал и Алексеева-Станиславского, и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый, современный автор.
Немирович знал «Чайку» и раньше, очень ценил и хотел ее для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.
«Чайку» не он один оценил, несмотря на ее неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.
Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.
При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» – слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал: не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12 мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. “Чайка” единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».
На этот раз Чехов ответил по-другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить ее можно.
Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «к стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в высших ее областях. Но все-таки занялся мизансценами непонятой (и, значит, нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского – через силу и наугад – оказался первостатейным.
Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять ее судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего клуба в ту же самую минуту, что и Лужского – Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других (Артем позже вошел в состав).
Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинавшую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.
В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг, в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.
За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции “Фед. Иоанн.”; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы “эту Ирину”».
Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато» можно, только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось.
Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мелихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет об их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».
«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура. Дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на нее все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.
Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но все-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.
Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.
Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно, Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так, как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.
Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная, – еще шаг, и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось: зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в исступление.
Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».
В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» – они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы, и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон, и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».
Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами – страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.
«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем, Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневский – бывший товарищ по гимназии в Таганроге, – кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на “Чайке” и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о “Чайке”, были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).
Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями: Книппер заболела и некем было заменить ее, но потом все наладилось и успех оказался огромным.
Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.
Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Все это происходило именно в России.
* * *
Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича – тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.