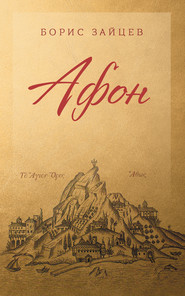По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Мужиков» писал медленно. Это одно из очень пронзительных его произведений. И очень важное. Важность его он и сам понимал. Позже, покидая навсегда Мелихово, говорил, что после «Мужиков» Мелихово для него исчерпано.
Пронзительность повести состоит в соединении грубости, ужаса даже, с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией. Вернее даже, ею и рождены. Мужики бедны, грязны, напиваются и безобразничают, но они никак не звери. Конечно, бывший лакей в «Славянском базаре» Николай Чикильдеев, родом из этого же села Жукова, по болезни возвращающийся в деревню, жена его Ольга и дочь Саша несколько выше жуковцев. Жили в Москве, кое-что видели, даже по Москве тоскуют в убожестве мужицкой жизни. (Ольга – первый вариант Варвары из более позднего шедевра «В овраге» – то же смирение и благообразие русской простой женщины: это знал он по своей матери, да и по тетке Федосье Яковлевне.)
Но вот и сами «мужики». У Чехова сказано:
«Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей “вы”».
Ведь и те бабы, которым в Страстную Пятницу студент Духовной академии читал у костра Евангелие, тоже никогда раньше ничего не слышали.
В деревню принесли Живоносную икону. «Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили.
Громадная толпа и своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка… И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:
– Заступница, матушка! Заступница!
Все как будто поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки».
Плачет и протягивает руки к Живоносной тот самый Кирьяк, который бил безответную жену, и в пьяном виде снова будет ее бить, а самого его высекут в волостном правлении, и он в трезвом виде будет мучиться.
«Мужики» – ряд сцен, нанизанных на жизнь семьи Николая Чикильдеева в родной деревне, до его смерти. По устремлению общественному связь с «Моей жизнью» есть, но «Мужики» плодоноснее, ярче и непосредственней. В последних страницах кое-что вяло (рассуждения о мужиках), но самый конец все возносит. Пережив тяжелую, полуголодную зиму, после смерти Николая, Ольга с Сашей уходят из деревни Жуково, просто пешком, без копейки денег пробираются в Москву. Весна, солнце, в полях жаворонки. «В полдень Ольга и Саша пришли в большое село». Там Ольга выбирает избу, которая показалась ей получше, и останавливается перед открытыми окнами. «Поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:
– Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой».
Тот же вековечный нищенский припев тянет за ней Саша. И выходит как-то так, что смиренные голоса этих женщин говорят больше чем за себя самих: за всю нищую деревню и Россию.
* * *
Повесть выдержала сразу несколько изданий, вызвала мнения различные, произвела шум своеобразием своим, не подходившим под народническую выкройку. Но подумать только: вещь, полная сочувствия народу, даже с затаенными слезами (где-то далеко запрятанными), вещь, которая местами берет как раз смело-высокие ноты, на границе риска – вдруг приводит к тому, что какие-то «писатели», при баллотировке автора ее в Союз писателей, выступают против избрания.
Короленко, предлагая Чехову вступить в Союз, говорил, что это пустая формальность.
Но вот Короленко, сам народник, человек разумный и благожелательный, очень ценивший Чехова, тут просчитался.
Чехов все-таки был избран – только бы не хватало, чтобы его забаллотировали!
В судьбе же его жизненной «Мужики» тоже оказались знаменательны.
Кончив повесть, он поехал в Москву, как обычно. Там находился в это время Суворин, там жили Лавров и Гольцев, значит, «Большой Московский», «Эрмитажи», «Славянские базары»…
Должна была приехать и Лидия Алексеевна Авилова, молодая писательница из Петербурга, с которой были у него в это время какие-то нежно-запутанные сердечные дела.
Условились, что она зайдет к нему в «Большой Московский» вечером 23 марта. Она и зашла. К великому своему огорчению, дома его не застала. Показалось даже обидно: сам назначил и его нет.
Но Чехов виноват не был. В этот день, в 6 ч. вечера, он отправился с Сувориным в «Эрмитаж» обедать. Только что сели за стол, у него хлынула из горла кровь.
Обед расстроился, как и свидание с Авиловой. Суворин увез его с собой в «Славянский базар», там Чехов и провел ночь, очевидно неважную. Потом перебрался в «Большой Московский», но ненадолго: врачи велели переехать в клинику. Так что в конце марта он лежал уже на Девичьем поле в клинике Остроумова. В белой, чистой палате можно ясно представить себе похудевшего, тихого Чехова, спокойного и невеселого, конечно, но никак не ноющего; может быть, только с большею, чем обычно, грустью. На столике у кровати письма, цветы, в комнате приношения. Сколько в Москве всякой снеди, сластей, пирожных, конфет от Флея и Абрикосова! А ему нужно питаться. И женские сочувственные сердца не иссякают.
Авилова явилась в первый же день, несмотря на запрещение, – от нее роскошные цветы. Разумеется, прилетела Мария Павловна.
А 28 марта произошло в клинике Остроумова даже некоторое событие: навестил Чехова Лев Толстой. Посещение, может быть, и поднявшее дух Чехова, но медицински неудачное. Толстой ни с чем не остался. Ему интересно было говорить о бессмертии души, он и говорил с тяжелобольным, сколько ему нравилось. Полагал, что бессмертие существует в высшем разуме и добре, где сливаются души после смерти. Чехова такое бессмертие не удовлетворяло, он говорил что-то свое, но главное – устал и разволновался. Толстой ушел, а у него в 4 ч. утра началось сильное горловое кровотечение.
Весна была ранняя. Перепадали небольшие дожди, близилась Пасха. В Москве звонили великопостным звоном. Авиловой самый воздух на улицах казался «упоительным», от дождя будто камни мостовой даже стали душистей. Может быть, оттого все казалось ей замечательным, что она любила Чехова, он теперь был в беде, женскому сердцу ее еще ближе, все вообще обостренней. В редакции «Русской мысли» она услышала, что ему очень плохо. За него просто даже боялись. И вот, прежде чем зайти опять в клинику, она стоит на Замоскворецком мосту, смотрит, как бежит внизу река со льдинками, и все у ней вертится в голове, как ему плохо. Вспоминает, что и письма свои, последнее время, он запечатывал печатью с надписью: «Одинокому везде пустыня».
Но ему не было еще назначено уходить. Московские светила так определили: верхушечный процесс в легких. Дело серьезное, но жить можно, надо питаться, не уставать, на зиму перебираться в теплые края.
Он пролежал в Москве всю первую треть апреля. Понемногу оправлялся. Но работать было запрещено, и «через Машу» он объявил в Мелихове, что медицинскую практику прекращает. «Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть».
При всем невеселом настроении не пошутить не может. Кроме легких, все остальное у него в порядке. «До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было невредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!»
Последние дни в клинике он уже выходил по утрам, направлялся в Новодевичий монастырь, на могилу Плещеева. (Вообще любил бродить по кладбищам – черта, никак не идущая к медицине его.)
«А другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки. И на душе бывает так странно и тихо!»
11 апреля, на Страстной, был он уже в Мелихове. Как раз в этом месяце вышла книжка «Русской мысли» с «Мужиками». Повесть для Мелихова оказалась прощальной, а для жизни Чехова – внешней и внутренней – поворотной. С этого времени и болезнь его углубляется, и утончается писание.
Приятель молодости Чехова «Жан» Щеглов, посетивший «Антуана» в Мелихове в конце апреля, – ужаснулся, как изменился он.
Этот Щеглов, писатель небольшой, но натура хорошая, Чехова очень любил и понимал правильно. По его мнению, «Антуан» стал меняться со смерти брата Николая с 89-го года, затем поездка на Сахалин в 90-м году и вот теперь эта болезнь – все усиливало «меланхолически-религиозную» ноту в нем, обостряло лучшие его черты и возвышало писание. Вспоминает Щеглов и мнение Гоголя о значении болезней – замечательно, что Чехов, не считая себя религиозным, крест болезни нес безропотно, покорно, мужественно: это облагораживало, одухотворяло. Щеглов верно заметил, что он лучше стал и писать.
В Мелихове это лето прожил покойно. Уже в конце мая считал, что оправился – «знакомые при встрече не всматриваются в лицо и бабы не причитывают, когда я хожу по деревне. Кашля почти нет…» В июле: «Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».
Вопрос гостей так и будет преследовать его до могилы. Еще в клинике был у него проект: жениться. Именно для этого. «Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину». Но ничего не вышло. Не осуществилось и наступление на дам, мучивших своими пьесами («зазвать всех баб в магазин Мюра и Мерилиза и магазин сжечь»).
Подходит осень, из Мелихова надо уезжать, на этот раз за границу.
Осенью 97-го года для Чехова – это сперва Биарриц, потом Ницца и Ницца – 9, rue Gounod, Pension russe. Здесь он долго живет, всю зиму 97/98 года. Из подходящих ему людей – встречи с Максимом Ковалевским, обеды у него в Болье на вилле. Наездом Немирович-Данченко (Владимир), Южин. В писании затишье, лишь кое-какие мелочи (но их он тоже старается отделывать: требует от «Русских ведомостей» корректуру рассказа «В родном углу»: «…исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны» – ритм фразы всегда у него своеобразен, это важная часть его художества. Он и Авилову упрекает за небрежность письма: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать – в этом искусство»).
В общем же за границей ему невесело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по три недели бывает кровохарканье?
Русские в пансионе не очень нравятся. И вот пишет он письма, читает газеты. Дело Дрейфуса волнует и занимает его.
К Европе отношение очень «молодое», чтобы не сказать наивное. («От всякой собаки пахнет цивилизацией».) Дает он сестре Маше в письмах уроки французского языка. («Meme» значит «даже»; «de meme» – «также». «Поздоровавшись, ты говоришь: «Je suis charme de vous voir bien portant» – «Я рад видеть вас в добром здоровье».)
И этот же человек с чертами «молодости» сам пишет, ей же, несколько позже, что, хотя ему 38 лет, а такое чувство, будто прожил 89.
Восемьдесят девять, но вот ему интересно купить себе цилиндр, хочется и подарками угодить в Мелихове – он из-за границы всегда привозил своим разные вещи, с большим вниманием и любовью к этому относился. («Папаше соломенную шляпу купил, но без ленты». Марии Павловне платки.)
В общем, эта зима за границей мало дала ему для здоровья. Хуже оно не стало, но и не улучшилось. «В весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».
Весной вернулся, лето проводил в Мелихове. Спокойная, налаженная жизнь продолжалась. Мария Павловна хозяйничала, управляла имением. Евгения Яковлевна закармливала гостей, обольщала их лаской. Павел Егорыч вел дневник. «Рябая корова отелилась». «Сегодня обедали, все было вкусно. Разговоров было много. Росбив понравился Антоше». «Антоша приехал из Франции. Привез подарков много».
И, наверно, казалось, что всегда так и будет.
Осенью «Антоша» уехал в Ялту, зиму опять должен был проводить на юге. И поселился, и проводил. И никто из них, вероятно, не думал, что летняя запись Павла Егорыча: «Я уезжаю в Москву через Ярославль…» – будет последней.
Но так именно и вышло. 14 октября 1898 года помечена телеграмма Антона Павловича из Ялты в Мелихово:
«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать – Антон».
Пронзительность повести состоит в соединении грубости, ужаса даже, с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией. Вернее даже, ею и рождены. Мужики бедны, грязны, напиваются и безобразничают, но они никак не звери. Конечно, бывший лакей в «Славянском базаре» Николай Чикильдеев, родом из этого же села Жукова, по болезни возвращающийся в деревню, жена его Ольга и дочь Саша несколько выше жуковцев. Жили в Москве, кое-что видели, даже по Москве тоскуют в убожестве мужицкой жизни. (Ольга – первый вариант Варвары из более позднего шедевра «В овраге» – то же смирение и благообразие русской простой женщины: это знал он по своей матери, да и по тетке Федосье Яковлевне.)
Но вот и сами «мужики». У Чехова сказано:
«Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей “вы”».
Ведь и те бабы, которым в Страстную Пятницу студент Духовной академии читал у костра Евангелие, тоже никогда раньше ничего не слышали.
В деревню принесли Живоносную икону. «Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили.
Громадная толпа и своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка… И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:
– Заступница, матушка! Заступница!
Все как будто поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки».
Плачет и протягивает руки к Живоносной тот самый Кирьяк, который бил безответную жену, и в пьяном виде снова будет ее бить, а самого его высекут в волостном правлении, и он в трезвом виде будет мучиться.
«Мужики» – ряд сцен, нанизанных на жизнь семьи Николая Чикильдеева в родной деревне, до его смерти. По устремлению общественному связь с «Моей жизнью» есть, но «Мужики» плодоноснее, ярче и непосредственней. В последних страницах кое-что вяло (рассуждения о мужиках), но самый конец все возносит. Пережив тяжелую, полуголодную зиму, после смерти Николая, Ольга с Сашей уходят из деревни Жуково, просто пешком, без копейки денег пробираются в Москву. Весна, солнце, в полях жаворонки. «В полдень Ольга и Саша пришли в большое село». Там Ольга выбирает избу, которая показалась ей получше, и останавливается перед открытыми окнами. «Поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:
– Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой».
Тот же вековечный нищенский припев тянет за ней Саша. И выходит как-то так, что смиренные голоса этих женщин говорят больше чем за себя самих: за всю нищую деревню и Россию.
* * *
Повесть выдержала сразу несколько изданий, вызвала мнения различные, произвела шум своеобразием своим, не подходившим под народническую выкройку. Но подумать только: вещь, полная сочувствия народу, даже с затаенными слезами (где-то далеко запрятанными), вещь, которая местами берет как раз смело-высокие ноты, на границе риска – вдруг приводит к тому, что какие-то «писатели», при баллотировке автора ее в Союз писателей, выступают против избрания.
Короленко, предлагая Чехову вступить в Союз, говорил, что это пустая формальность.
Но вот Короленко, сам народник, человек разумный и благожелательный, очень ценивший Чехова, тут просчитался.
Чехов все-таки был избран – только бы не хватало, чтобы его забаллотировали!
В судьбе же его жизненной «Мужики» тоже оказались знаменательны.
Кончив повесть, он поехал в Москву, как обычно. Там находился в это время Суворин, там жили Лавров и Гольцев, значит, «Большой Московский», «Эрмитажи», «Славянские базары»…
Должна была приехать и Лидия Алексеевна Авилова, молодая писательница из Петербурга, с которой были у него в это время какие-то нежно-запутанные сердечные дела.
Условились, что она зайдет к нему в «Большой Московский» вечером 23 марта. Она и зашла. К великому своему огорчению, дома его не застала. Показалось даже обидно: сам назначил и его нет.
Но Чехов виноват не был. В этот день, в 6 ч. вечера, он отправился с Сувориным в «Эрмитаж» обедать. Только что сели за стол, у него хлынула из горла кровь.
Обед расстроился, как и свидание с Авиловой. Суворин увез его с собой в «Славянский базар», там Чехов и провел ночь, очевидно неважную. Потом перебрался в «Большой Московский», но ненадолго: врачи велели переехать в клинику. Так что в конце марта он лежал уже на Девичьем поле в клинике Остроумова. В белой, чистой палате можно ясно представить себе похудевшего, тихого Чехова, спокойного и невеселого, конечно, но никак не ноющего; может быть, только с большею, чем обычно, грустью. На столике у кровати письма, цветы, в комнате приношения. Сколько в Москве всякой снеди, сластей, пирожных, конфет от Флея и Абрикосова! А ему нужно питаться. И женские сочувственные сердца не иссякают.
Авилова явилась в первый же день, несмотря на запрещение, – от нее роскошные цветы. Разумеется, прилетела Мария Павловна.
А 28 марта произошло в клинике Остроумова даже некоторое событие: навестил Чехова Лев Толстой. Посещение, может быть, и поднявшее дух Чехова, но медицински неудачное. Толстой ни с чем не остался. Ему интересно было говорить о бессмертии души, он и говорил с тяжелобольным, сколько ему нравилось. Полагал, что бессмертие существует в высшем разуме и добре, где сливаются души после смерти. Чехова такое бессмертие не удовлетворяло, он говорил что-то свое, но главное – устал и разволновался. Толстой ушел, а у него в 4 ч. утра началось сильное горловое кровотечение.
Весна была ранняя. Перепадали небольшие дожди, близилась Пасха. В Москве звонили великопостным звоном. Авиловой самый воздух на улицах казался «упоительным», от дождя будто камни мостовой даже стали душистей. Может быть, оттого все казалось ей замечательным, что она любила Чехова, он теперь был в беде, женскому сердцу ее еще ближе, все вообще обостренней. В редакции «Русской мысли» она услышала, что ему очень плохо. За него просто даже боялись. И вот, прежде чем зайти опять в клинику, она стоит на Замоскворецком мосту, смотрит, как бежит внизу река со льдинками, и все у ней вертится в голове, как ему плохо. Вспоминает, что и письма свои, последнее время, он запечатывал печатью с надписью: «Одинокому везде пустыня».
Но ему не было еще назначено уходить. Московские светила так определили: верхушечный процесс в легких. Дело серьезное, но жить можно, надо питаться, не уставать, на зиму перебираться в теплые края.
Он пролежал в Москве всю первую треть апреля. Понемногу оправлялся. Но работать было запрещено, и «через Машу» он объявил в Мелихове, что медицинскую практику прекращает. «Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть».
При всем невеселом настроении не пошутить не может. Кроме легких, все остальное у него в порядке. «До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было невредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!»
Последние дни в клинике он уже выходил по утрам, направлялся в Новодевичий монастырь, на могилу Плещеева. (Вообще любил бродить по кладбищам – черта, никак не идущая к медицине его.)
«А другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки. И на душе бывает так странно и тихо!»
11 апреля, на Страстной, был он уже в Мелихове. Как раз в этом месяце вышла книжка «Русской мысли» с «Мужиками». Повесть для Мелихова оказалась прощальной, а для жизни Чехова – внешней и внутренней – поворотной. С этого времени и болезнь его углубляется, и утончается писание.
Приятель молодости Чехова «Жан» Щеглов, посетивший «Антуана» в Мелихове в конце апреля, – ужаснулся, как изменился он.
Этот Щеглов, писатель небольшой, но натура хорошая, Чехова очень любил и понимал правильно. По его мнению, «Антуан» стал меняться со смерти брата Николая с 89-го года, затем поездка на Сахалин в 90-м году и вот теперь эта болезнь – все усиливало «меланхолически-религиозную» ноту в нем, обостряло лучшие его черты и возвышало писание. Вспоминает Щеглов и мнение Гоголя о значении болезней – замечательно, что Чехов, не считая себя религиозным, крест болезни нес безропотно, покорно, мужественно: это облагораживало, одухотворяло. Щеглов верно заметил, что он лучше стал и писать.
В Мелихове это лето прожил покойно. Уже в конце мая считал, что оправился – «знакомые при встрече не всматриваются в лицо и бабы не причитывают, когда я хожу по деревне. Кашля почти нет…» В июле: «Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».
Вопрос гостей так и будет преследовать его до могилы. Еще в клинике был у него проект: жениться. Именно для этого. «Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину». Но ничего не вышло. Не осуществилось и наступление на дам, мучивших своими пьесами («зазвать всех баб в магазин Мюра и Мерилиза и магазин сжечь»).
Подходит осень, из Мелихова надо уезжать, на этот раз за границу.
Осенью 97-го года для Чехова – это сперва Биарриц, потом Ницца и Ницца – 9, rue Gounod, Pension russe. Здесь он долго живет, всю зиму 97/98 года. Из подходящих ему людей – встречи с Максимом Ковалевским, обеды у него в Болье на вилле. Наездом Немирович-Данченко (Владимир), Южин. В писании затишье, лишь кое-какие мелочи (но их он тоже старается отделывать: требует от «Русских ведомостей» корректуру рассказа «В родном углу»: «…исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны» – ритм фразы всегда у него своеобразен, это важная часть его художества. Он и Авилову упрекает за небрежность письма: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать – в этом искусство»).
В общем же за границей ему невесело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по три недели бывает кровохарканье?
Русские в пансионе не очень нравятся. И вот пишет он письма, читает газеты. Дело Дрейфуса волнует и занимает его.
К Европе отношение очень «молодое», чтобы не сказать наивное. («От всякой собаки пахнет цивилизацией».) Дает он сестре Маше в письмах уроки французского языка. («Meme» значит «даже»; «de meme» – «также». «Поздоровавшись, ты говоришь: «Je suis charme de vous voir bien portant» – «Я рад видеть вас в добром здоровье».)
И этот же человек с чертами «молодости» сам пишет, ей же, несколько позже, что, хотя ему 38 лет, а такое чувство, будто прожил 89.
Восемьдесят девять, но вот ему интересно купить себе цилиндр, хочется и подарками угодить в Мелихове – он из-за границы всегда привозил своим разные вещи, с большим вниманием и любовью к этому относился. («Папаше соломенную шляпу купил, но без ленты». Марии Павловне платки.)
В общем, эта зима за границей мало дала ему для здоровья. Хуже оно не стало, но и не улучшилось. «В весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».
Весной вернулся, лето проводил в Мелихове. Спокойная, налаженная жизнь продолжалась. Мария Павловна хозяйничала, управляла имением. Евгения Яковлевна закармливала гостей, обольщала их лаской. Павел Егорыч вел дневник. «Рябая корова отелилась». «Сегодня обедали, все было вкусно. Разговоров было много. Росбив понравился Антоше». «Антоша приехал из Франции. Привез подарков много».
И, наверно, казалось, что всегда так и будет.
Осенью «Антоша» уехал в Ялту, зиму опять должен был проводить на юге. И поселился, и проводил. И никто из них, вероятно, не думал, что летняя запись Павла Егорыча: «Я уезжаю в Москву через Ярославль…» – будет последней.
Но так именно и вышло. 14 октября 1898 года помечена телеграмма Антона Павловича из Ялты в Мелихово:
«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать – Антон».