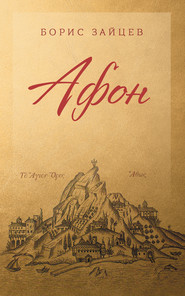По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было, в письмах он отговаривался (по словам Станиславского) тем, что не знает, в сущности, их театра – действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99-го года, для него ставили, без публики. Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло.
На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Киста, наводнили собой, разумеется, все – и у Киста, да и для города это было событием. Билеты шли нарасхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.
Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговелись очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал, после Пасхальной заутрени, «Буревестника».
За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда:
– Я совсем здоров.
И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.
Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.
Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке – грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но все-таки выходил.
Насчет отчаяния, думаю, преувеличено.
Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой – это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского.
Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.
Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневский, – все это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чаи – непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролюбов, Немирович, Мамин-Сибиряк – как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.
Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно – приготовят всё руки малых сил.
Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича), что, когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора – бесценная». Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней, с санаторией.
Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне, другой вопрос.
Про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер). Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» – первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь». «Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая».
О любви – Книппер
Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. «Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным» – это говорит Немирович и добавляет, что «болтать» на эту тему Чехов не любил: вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был (а не только «умел быть»), это бесспорно.
Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было.
И в Москве 80-х гг., и в Мелихове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость.
Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в «Чайку».
О «романе» с Авиловой судить трудно потому, что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, «задет», «влюблен», как угодно, смотря по темпераменту.
Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним – иногда живые и трогательные, иногда наивные.
Говорит всегда одна сторона. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и другим писательницам, – дает советы (по части ремесла), иногда очень смелые, упрекает за небрежность фразы и т. п. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо, дарования у ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. («Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», – ведь это одно оскорбление».)
Что она полюбила его – бесспорно. По ее изображению, получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог.
Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза, «взорвалась» и «с восторгом взвилась ракета». «Я ничуть не сомневаюсь, что с А.П. случилось то же…» – именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно.
Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудач, и, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренно, в общем даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет «сюжетов». («И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ».)
То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в «Чайке» и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине (страница 121, строки 11 и 12) – все это очень любопытно, более же существенное начинается позже, в 98-м году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы.
С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой.
Возможно, что и сама болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет.
В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его «О любви». Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой (в этой полосе). Самой же ей рассказ просто пронзил сердце, – когда читала его впервые, то «тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение». Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного: молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович любит некий Алехин – долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может. И она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию, она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет.
Авилова нашла в рассказе свои фразы. («Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну.)
Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове: «Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь».
Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову (но в соседнем купе не сидел и не плакал, плачущим я его вообще не вижу). Но действительно, больше она его не увидела.
Может быть, и была права, полагая, что «писатель как пчела, берет мед откуда придется», – в Чехове писатель, разумеется, был все. (Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики.)
Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя.
Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так.
Нельзя назвать рассказ «О любви» изобразительным и ярким, но конец пронзает особою, чеховской нотой.
Помню его в Ялте, на скамеечке пред ночным морем (случайно увидел раз на набережной, он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море). Наверное, понимал. Но говорить об этом не любил.
Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой» (99-й г.), прелестном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском.
Выход дала жизнь.
* * *
Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по Московскому литературному кружку, после смерти Чехова. Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое. Очень острая, с большим обаянием женщина. Может быть, остроту эту давала и примесь нерусской крови (венгерско-немецкой?), во всяком случае, оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигентна, для актрисы довольно культурна, театру отдалась с юных лет – кончила Филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в Художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был царица Ирина, но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного, и Лика преображенно присутствует в ней. «Три сестры» начаты тем летом 1900 года, когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и «в Москву, в Москву» самого Чехова (лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались), и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет «через двести, триста лет».
Осенью 1900 года, после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. «Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать». «…6-й или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо все хвораю. Жар, кашель, насморк». «От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место Мандражи».
Он на десять лет старше «ее», знаменит, но болен, живет в этой Ялте как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а «она» в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет… «Уже отвыкать стала от меня. Ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе». «Целую тебя крепко, до обморока».
Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма, из Москвы в Ялту: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За «холод» и она его упрекала. Авилова тоже. Как и тогда упрек в письме Книппер задевает его. «А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе…» – но все же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. «Чужая душа потемки» – было в Чехове, наверно, всякое: и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее – трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт, противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного, и упорствует, даже тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится.
В октябре Чехов окончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра. «Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в Художественном театре, бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам!»
На добровольцев они похожи не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному: Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему, Горький несдержанно и вызывающе (поклонников просто ругал), но тогда буревестнический тон был в моде, и такое сходило. Даже имело успех. (В 1902 году подголосок Горького Скиталец в Дворянском собрании перед сотнями слушателей предлагал пройтись по головам их кистенем. Вызвал овацию.)
В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в Pension russe, 9, rue Gounod. Ницца ему всегда нравилась, также и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старику почаще. Здесь в Ницце великолепно, погода изумительная».
На письма Чехова к Книппер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны.
На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Киста, наводнили собой, разумеется, все – и у Киста, да и для города это было событием. Билеты шли нарасхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.
Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговелись очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал, после Пасхальной заутрени, «Буревестника».
За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда:
– Я совсем здоров.
И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.
Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.
Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке – грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но все-таки выходил.
Насчет отчаяния, думаю, преувеличено.
Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой – это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского.
Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.
Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневский, – все это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чаи – непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролюбов, Немирович, Мамин-Сибиряк – как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.
Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно – приготовят всё руки малых сил.
Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича), что, когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора – бесценная». Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней, с санаторией.
Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне, другой вопрос.
Про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер). Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» – первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь». «Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая».
О любви – Книппер
Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. «Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным» – это говорит Немирович и добавляет, что «болтать» на эту тему Чехов не любил: вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был (а не только «умел быть»), это бесспорно.
Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было.
И в Москве 80-х гг., и в Мелихове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость.
Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в «Чайку».
О «романе» с Авиловой судить трудно потому, что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, «задет», «влюблен», как угодно, смотря по темпераменту.
Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним – иногда живые и трогательные, иногда наивные.
Говорит всегда одна сторона. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и другим писательницам, – дает советы (по части ремесла), иногда очень смелые, упрекает за небрежность фразы и т. п. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо, дарования у ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. («Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», – ведь это одно оскорбление».)
Что она полюбила его – бесспорно. По ее изображению, получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог.
Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза, «взорвалась» и «с восторгом взвилась ракета». «Я ничуть не сомневаюсь, что с А.П. случилось то же…» – именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно.
Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудач, и, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренно, в общем даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет «сюжетов». («И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ».)
То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в «Чайке» и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине (страница 121, строки 11 и 12) – все это очень любопытно, более же существенное начинается позже, в 98-м году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы.
С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой.
Возможно, что и сама болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет.
В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его «О любви». Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой (в этой полосе). Самой же ей рассказ просто пронзил сердце, – когда читала его впервые, то «тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение». Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного: молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович любит некий Алехин – долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может. И она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию, она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет.
Авилова нашла в рассказе свои фразы. («Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну.)
Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове: «Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь».
Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову (но в соседнем купе не сидел и не плакал, плачущим я его вообще не вижу). Но действительно, больше она его не увидела.
Может быть, и была права, полагая, что «писатель как пчела, берет мед откуда придется», – в Чехове писатель, разумеется, был все. (Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики.)
Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя.
Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так.
Нельзя назвать рассказ «О любви» изобразительным и ярким, но конец пронзает особою, чеховской нотой.
Помню его в Ялте, на скамеечке пред ночным морем (случайно увидел раз на набережной, он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море). Наверное, понимал. Но говорить об этом не любил.
Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой» (99-й г.), прелестном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском.
Выход дала жизнь.
* * *
Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по Московскому литературному кружку, после смерти Чехова. Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое. Очень острая, с большим обаянием женщина. Может быть, остроту эту давала и примесь нерусской крови (венгерско-немецкой?), во всяком случае, оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигентна, для актрисы довольно культурна, театру отдалась с юных лет – кончила Филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в Художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был царица Ирина, но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного, и Лика преображенно присутствует в ней. «Три сестры» начаты тем летом 1900 года, когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и «в Москву, в Москву» самого Чехова (лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались), и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет «через двести, триста лет».
Осенью 1900 года, после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. «Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать». «…6-й или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо все хвораю. Жар, кашель, насморк». «От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место Мандражи».
Он на десять лет старше «ее», знаменит, но болен, живет в этой Ялте как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а «она» в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет… «Уже отвыкать стала от меня. Ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе». «Целую тебя крепко, до обморока».
Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма, из Москвы в Ялту: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За «холод» и она его упрекала. Авилова тоже. Как и тогда упрек в письме Книппер задевает его. «А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе…» – но все же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. «Чужая душа потемки» – было в Чехове, наверно, всякое: и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее – трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт, противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного, и упорствует, даже тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится.
В октябре Чехов окончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра. «Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в Художественном театре, бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам!»
На добровольцев они похожи не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному: Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему, Горький несдержанно и вызывающе (поклонников просто ругал), но тогда буревестнический тон был в моде, и такое сходило. Даже имело успех. (В 1902 году подголосок Горького Скиталец в Дворянском собрании перед сотнями слушателей предлагал пройтись по головам их кистенем. Вызвал овацию.)
В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в Pension russe, 9, rue Gounod. Ницца ему всегда нравилась, также и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старику почаще. Здесь в Ницце великолепно, погода изумительная».
На письма Чехова к Книппер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны.