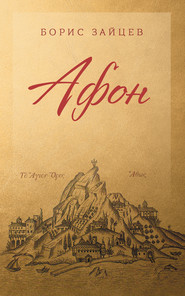По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причина – Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Тройца: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный», по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо – не очень-то он хотел распространяться о деле, слишком для Левитана интимном.
В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином» – отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»), «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но, конечно, все писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».
«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.
«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия и судьба.
Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу… не без удовольствия»: надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».
L’amor che muove l’sol e l’altre stelle[74 - Любовь, движущая солнце и другие звезды (итал.).] – это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года, – оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное – любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек.)
Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имения Турчаниновой: «…располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.
Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда, мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова – так он все прятал, но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.
«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.
Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.
Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву): «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами.
Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием – это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели (кажется, единственный случай в литературе нашей): и утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно.
Есть и еще особенность «Чайки» – связано это с эпохой.
Девяностые годы в России не то что восьмидесятые. Не такая уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».
Чехову Ибсен, наверное, не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Иоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь (на сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведения.
В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки…» (все вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует, и Дьявол должен явиться).
Сразу чувствуешь некий особенный оттенок. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится его душа. Это Тригорин записывает каждую удачную фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на рояль»), Чехов же между ними посредник.
Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Иоиль младший», все-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символически чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), все же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской есть.
Все складывалось, конечно, по-особенному вокруг этой пьесы. Не напрасно была история с Ликой, не напрасно все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.
Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое предприятие), посылалась она на суд Суворину, был момент, когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».
Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое – драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилось, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «может любить только молодых».
В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась повестка для актеров на генеральную репетицию – 16 октября 1896 г. Премьера 17-го.
Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.
Надо же было придумать – ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостинодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!
Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна все же досидела до конца и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Сувориным, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал с товаро-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».
Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.
«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».
* * *
Лика довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х годов вновь была за границей – частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма – Лика одно время входила в труппу Художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали за границу.
Теперь жизнь Лики не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом за границей.
В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стекленная. Там лежала на постели какая-то женщина.
– Знаете, кто это? – спросила моя знакомая.
– Нет.
– Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.
В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.
Вновь Мелихово
Ни одного романа Чехову не пришлось написать, хотя, может быть, и хотелось. Где грань между повестью и романом? Кажется, не установлена. Решается более на глаз, по глубине дыхания или длине волны. Ни дыхания, ни волны романиста у Чехова не было – и не надо ему этого. Его прекрасный дар выражался в ином. Чеховские шедевры так сжаты, кратки и густы, что о романе не может быть речи.
«Моя жизнь» довольно длинная повесть (были у него, однако, и длиннее: «Дуэль», «Степь»). Но те он писал в большем подъеме, «Степь» в особенности. Потому, можно думать, что они непосредственней – «Степь» даже ближе ему кровно. «Моя жизнь» очень замечательна, но с меньшим обаянием, чем те. Она суше, в ней меньше внутренней влаги. Может быть, имеет значение, что в ней много обличительного. Это некий голос о неправдах жизни, даже проповедь (отчасти в духе Толстого). Много верного, но как и у самого Толстого поздней полосы указующий перст мало дает радости.
Да, жизнь груба и жестока, богатые себялюбивы, отец-архитектор фарисей, инженер хамоват и ловкач, во всем городе нет ни одного честного человека, «лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой», и у них были высокие стремления, но и девушки, выйдя замуж, опускались. В общем же «трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо», гремит худой, с высохшими губами Редька, странный подрядчик малярных работ, чистейший человек, праведник, вероятно, сектант (и без влаги, и без греха). «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!» Все правильно, и чем-то этот Редька трогателен, но в нем нет того света, как в о. Христофоре из «Степи».
Сам рассказчик – сын архитектора, бросающий немилый дом, уходящий к малярам, обращающийся в рабочего, тоже во всем прав и тоже во всем суховат. И достоин, и праведно протестует, а чего-то в нем нет. Смирения, любви? Он тоже сектант, как и Редька. Сектанты же часто чрезмерно горды (праведностью своей).
Над «Чайкой» прошло легкое веяние символизма. Над «Моей жизнью» веяние Толстого поздней поры. Приблизительно в это время (несколько ранее) Чехов с Толстым и познакомился. Он произвел на него большое впечатление. Но их отношения сложны. Толстой Чехова восхищал, но иногда раздражал.
Толстовское опрощение, «в народ», в «Моей жизни» бесспорно. Есть в ней, однако, и глубокая чеховская серьезность, есть внутренняя значительность, новизна положений, своеобразие всего и какая-то строгость. Аскетическая строгость – редкий для Чехова случай.
Написал он ее довольно быстро, к сроку. Возможно, этим и объясняется, что в ней немало мелких словесных промахов. Кончил в начале августа, доделывал в корректуре, а уже ранней осенью стали ее печатать в «Ниве». В критике «Моя жизнь» прошла незамеченной – хороша была критика! – для самого же Чехова, для пути его имела большое значение. «Чайка» начала новый театр, «Моя жизнь» определила новую внутреннюю струю писания его: общественную.
* * *
«Вчера пьяный мужик-старик, раздевшись, купался в пруду, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков – сын побил».
……………………………………………………………………………………
«Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь».
Первый отрывок – из мелиховского письма. Второй из повести «Мужики», написанный тоже в Мелихове, весной 97-го года.
Не из одного мрака состояла жизнь тогдашней деревни. Но его было достаточно. Тьмы, грубости было достаточно. С ранних лет видел Чехов много тяжелого. Все это было на юге России, в Таганроге. Теперь он жил под Москвой, рядом с согражданами-крестьянами.
95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причина – Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Тройца: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный», по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо – не очень-то он хотел распространяться о деле, слишком для Левитана интимном.
В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином» – отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»), «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но, конечно, все писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».
«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.
«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия и судьба.
Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу… не без удовольствия»: надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».
L’amor che muove l’sol e l’altre stelle[74 - Любовь, движущая солнце и другие звезды (итал.).] – это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года, – оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное – любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек.)
Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имения Турчаниновой: «…располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.
Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда, мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова – так он все прятал, но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.
«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.
Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.
Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву): «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами.
Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием – это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели (кажется, единственный случай в литературе нашей): и утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно.
Есть и еще особенность «Чайки» – связано это с эпохой.
Девяностые годы в России не то что восьмидесятые. Не такая уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».
Чехову Ибсен, наверное, не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Иоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь (на сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведения.
В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки…» (все вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует, и Дьявол должен явиться).
Сразу чувствуешь некий особенный оттенок. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится его душа. Это Тригорин записывает каждую удачную фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на рояль»), Чехов же между ними посредник.
Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Иоиль младший», все-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символически чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), все же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской есть.
Все складывалось, конечно, по-особенному вокруг этой пьесы. Не напрасно была история с Ликой, не напрасно все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.
Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое предприятие), посылалась она на суд Суворину, был момент, когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».
Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое – драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилось, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «может любить только молодых».
В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась повестка для актеров на генеральную репетицию – 16 октября 1896 г. Премьера 17-го.
Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.
Надо же было придумать – ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостинодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!
Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна все же досидела до конца и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Сувориным, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал с товаро-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».
Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.
«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».
* * *
Лика довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х годов вновь была за границей – частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма – Лика одно время входила в труппу Художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали за границу.
Теперь жизнь Лики не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом за границей.
В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стекленная. Там лежала на постели какая-то женщина.
– Знаете, кто это? – спросила моя знакомая.
– Нет.
– Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.
В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.
Вновь Мелихово
Ни одного романа Чехову не пришлось написать, хотя, может быть, и хотелось. Где грань между повестью и романом? Кажется, не установлена. Решается более на глаз, по глубине дыхания или длине волны. Ни дыхания, ни волны романиста у Чехова не было – и не надо ему этого. Его прекрасный дар выражался в ином. Чеховские шедевры так сжаты, кратки и густы, что о романе не может быть речи.
«Моя жизнь» довольно длинная повесть (были у него, однако, и длиннее: «Дуэль», «Степь»). Но те он писал в большем подъеме, «Степь» в особенности. Потому, можно думать, что они непосредственней – «Степь» даже ближе ему кровно. «Моя жизнь» очень замечательна, но с меньшим обаянием, чем те. Она суше, в ней меньше внутренней влаги. Может быть, имеет значение, что в ней много обличительного. Это некий голос о неправдах жизни, даже проповедь (отчасти в духе Толстого). Много верного, но как и у самого Толстого поздней полосы указующий перст мало дает радости.
Да, жизнь груба и жестока, богатые себялюбивы, отец-архитектор фарисей, инженер хамоват и ловкач, во всем городе нет ни одного честного человека, «лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой», и у них были высокие стремления, но и девушки, выйдя замуж, опускались. В общем же «трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо», гремит худой, с высохшими губами Редька, странный подрядчик малярных работ, чистейший человек, праведник, вероятно, сектант (и без влаги, и без греха). «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!» Все правильно, и чем-то этот Редька трогателен, но в нем нет того света, как в о. Христофоре из «Степи».
Сам рассказчик – сын архитектора, бросающий немилый дом, уходящий к малярам, обращающийся в рабочего, тоже во всем прав и тоже во всем суховат. И достоин, и праведно протестует, а чего-то в нем нет. Смирения, любви? Он тоже сектант, как и Редька. Сектанты же часто чрезмерно горды (праведностью своей).
Над «Чайкой» прошло легкое веяние символизма. Над «Моей жизнью» веяние Толстого поздней поры. Приблизительно в это время (несколько ранее) Чехов с Толстым и познакомился. Он произвел на него большое впечатление. Но их отношения сложны. Толстой Чехова восхищал, но иногда раздражал.
Толстовское опрощение, «в народ», в «Моей жизни» бесспорно. Есть в ней, однако, и глубокая чеховская серьезность, есть внутренняя значительность, новизна положений, своеобразие всего и какая-то строгость. Аскетическая строгость – редкий для Чехова случай.
Написал он ее довольно быстро, к сроку. Возможно, этим и объясняется, что в ней немало мелких словесных промахов. Кончил в начале августа, доделывал в корректуре, а уже ранней осенью стали ее печатать в «Ниве». В критике «Моя жизнь» прошла незамеченной – хороша была критика! – для самого же Чехова, для пути его имела большое значение. «Чайка» начала новый театр, «Моя жизнь» определила новую внутреннюю струю писания его: общественную.
* * *
«Вчера пьяный мужик-старик, раздевшись, купался в пруду, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков – сын побил».
……………………………………………………………………………………
«Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь».
Первый отрывок – из мелиховского письма. Второй из повести «Мужики», написанный тоже в Мелихове, весной 97-го года.
Не из одного мрака состояла жизнь тогдашней деревни. Но его было достаточно. Тьмы, грубости было достаточно. С ранних лет видел Чехов много тяжелого. Все это было на юге России, в Таганроге. Теперь он жил под Москвой, рядом с согражданами-крестьянами.