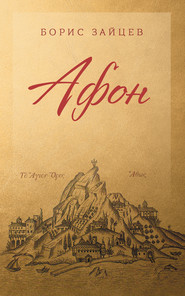По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С парохода «Ермак» письмо к матери помечено 20 июня 1890 года. По Амуру, в дикой, живописной стране путешествие уже отдых. В бинокль видны утки, гуси, гагары, цапли, на китайском берегу китайцы, напоминавшие ему «добрых ручных животных», а после 2? месячного путешествия открылась наконец и самая цель странствия – остров Сахалин.
Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет, позже кое-где поминается он, в великом мраке. Зато получилась книга «Сахалин», во всем писании Чехова стоящая особо. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать. Но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание, и с расчетом: облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают. Посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть – и видит.
Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю, но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел три месяца с отверженными и их стражами.
У него есть рассказ «В ссылке» – явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине. Видимо, на Иртыше. Перевозчики – ссыльнопоселенцы, мерзнут у костра на берегу реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая ясена. Семен Толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена? Отец? Мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение – убил богатый дядя и откупился, общество указало на этого – все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка.
«– Привыкнешь! – сказал Толковый и засмеялся. – Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай Бог всякому такой жизни».
Они очень разные. Толковый находит, что, кто хочет счастья, тот «первее всего» пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем, в глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец, – он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену, она приехала и сбежала потом, оставив дочь-девочку. Та больна, и вот «барин» носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке, он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает, Толковый укладывается спать в избушке, а «со двора послышались звуки, похожие на собачий вой». Это татарин плакал.
«– Привы-ыкнет! – сказал Семен и тотчас же заснул».
Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, невесть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может слез и рыданий, выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам, но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят «в затылок» такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна, вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы – сопки, что ли? – это и есть Сахалин. Это и есть три месяца Чехова.
Позже, в письме к Кони, он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12-и лет…» «Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями – всё такие болезни, которые свидетельствуют о забросе».
Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок. И символический смысл – образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает.
Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы четыре каторжника, черкес – жилец покойной, Чехов, казначей и баба каторжная. «Эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы – одного грудного и другого Алешку, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю:
– Алешка, где мать?
Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит:
– Закопали!
Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, «куда ему девать детей, он не обязан их кормить».
Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие.
Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже, там же; и написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик – Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а, как называли в старину, «торговой», в сущности при мучительстве: наказании плетьми (каторжника, провинившегося уже на Сахалине).
Все он видит, наблюдает… Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого (жуткая зарисовка). Вернулся к концу этих сорока плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары, мерещился «палач и отвратительная кобыла».
Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой: два-три дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью.
Радуешься за Чехова, когда покидает он наконец этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе «Петербург» мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал».
А сколько и необычайного! Цейлон – место, где был Рай. Красное море хотя и унылое, но ведет к Синаю. («Я умилялся на Синай».) – «Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения».
Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного «Убийства», рассказы «В ссылке» и «Гусев».
Простое сердце – солдат Гусев, смиренный русский человек – и вечный обличитель неправды Павел Иваныч, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе Добровольного Флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иваныч, и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иваныч до конца возмущается несправедливостями жизни – оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину к спускают в море. «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников» (Суворину). Это, конечно, Павел Иваныч и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура («чуть не плакал»). «Становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».
«Гусев» был напечатан в том же, 1890 году. «Убийство» помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы – Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче (убившем, однако, брата и попавшем на Сахалин). Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Иваныча и у Раскольникова подготовка неодинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иваныч окончательно все решил, каторга все ему открыла. «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов… и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий… у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги».
«Простой веры» не было у самого Чехова, и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» – это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» – это соединение Второй Заповеди с добрым Самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действенно ему отдайся – вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях.
«Сахалин» он писал в 91-м году (и позже), книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но это сторона внешняя – хоть и необходимая. Как внешни и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы, с Кони вместе, через Нарышкину, добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца.
Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется (раскрывать себя не любил). Все же в письмах кое-что есть.
«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» (Суворину). «…Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает».
С ума он не сходил и всего менее был к этому подходящ, но «возмужал» – хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить: и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на «добрую землю». То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. «…После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться».
* * *
Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином, преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к «левой интеллигенции». Как бы то ни было, «Сахалин» вызвал сенаторскую ревизию каторги.
Несчастных книга не могла сделать счастливыми. Но в их горький быт улучшения внесла.
На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней, Чехов не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы, чудом, попал и сказал правду, то, как доктор «Палаты № 6», очутился бы сам там же.
«Отдых»
Россия восьмидесятых, начала девяностых годов – это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет, в общем же время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка – всё вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да, видно, не так легко по-настоящему его прорубить.
Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.
Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.
Суворин с сыном собирались в марте 91-го года за границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.
Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин-старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии – возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.
Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается.
Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты, и «одних галстухов в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность… «Да вообще все чертовски изящно» – еще шаг, и начнется Гоголь.
Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэли или Бауэра – «в лучшем отеле, как дожи», – что обошлось Чехову недешево, но отставать от Суворина было нельзя.
В Венеции же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка – нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».
Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».
На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже.
Ясно видишь, как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:
– Да, здесь все дешево… Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим… Дмитрий, сколько мы платим?
– Зи-и-на, восемнадцать франков!
– Слышите, Чехов… Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?
Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом:
Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет, позже кое-где поминается он, в великом мраке. Зато получилась книга «Сахалин», во всем писании Чехова стоящая особо. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать. Но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание, и с расчетом: облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают. Посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть – и видит.
Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю, но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел три месяца с отверженными и их стражами.
У него есть рассказ «В ссылке» – явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине. Видимо, на Иртыше. Перевозчики – ссыльнопоселенцы, мерзнут у костра на берегу реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая ясена. Семен Толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена? Отец? Мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение – убил богатый дядя и откупился, общество указало на этого – все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка.
«– Привыкнешь! – сказал Толковый и засмеялся. – Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай Бог всякому такой жизни».
Они очень разные. Толковый находит, что, кто хочет счастья, тот «первее всего» пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем, в глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец, – он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену, она приехала и сбежала потом, оставив дочь-девочку. Та больна, и вот «барин» носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке, он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает, Толковый укладывается спать в избушке, а «со двора послышались звуки, похожие на собачий вой». Это татарин плакал.
«– Привы-ыкнет! – сказал Семен и тотчас же заснул».
Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, невесть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может слез и рыданий, выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам, но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят «в затылок» такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна, вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы – сопки, что ли? – это и есть Сахалин. Это и есть три месяца Чехова.
Позже, в письме к Кони, он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12-и лет…» «Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями – всё такие болезни, которые свидетельствуют о забросе».
Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок. И символический смысл – образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает.
Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы четыре каторжника, черкес – жилец покойной, Чехов, казначей и баба каторжная. «Эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы – одного грудного и другого Алешку, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю:
– Алешка, где мать?
Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит:
– Закопали!
Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, «куда ему девать детей, он не обязан их кормить».
Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие.
Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже, там же; и написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик – Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а, как называли в старину, «торговой», в сущности при мучительстве: наказании плетьми (каторжника, провинившегося уже на Сахалине).
Все он видит, наблюдает… Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого (жуткая зарисовка). Вернулся к концу этих сорока плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары, мерещился «палач и отвратительная кобыла».
Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой: два-три дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью.
Радуешься за Чехова, когда покидает он наконец этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе «Петербург» мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал».
А сколько и необычайного! Цейлон – место, где был Рай. Красное море хотя и унылое, но ведет к Синаю. («Я умилялся на Синай».) – «Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения».
Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного «Убийства», рассказы «В ссылке» и «Гусев».
Простое сердце – солдат Гусев, смиренный русский человек – и вечный обличитель неправды Павел Иваныч, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе Добровольного Флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иваныч, и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иваныч до конца возмущается несправедливостями жизни – оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину к спускают в море. «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников» (Суворину). Это, конечно, Павел Иваныч и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура («чуть не плакал»). «Становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».
«Гусев» был напечатан в том же, 1890 году. «Убийство» помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы – Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче (убившем, однако, брата и попавшем на Сахалин). Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Иваныча и у Раскольникова подготовка неодинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иваныч окончательно все решил, каторга все ему открыла. «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов… и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий… у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги».
«Простой веры» не было у самого Чехова, и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» – это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» – это соединение Второй Заповеди с добрым Самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действенно ему отдайся – вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях.
«Сахалин» он писал в 91-м году (и позже), книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но это сторона внешняя – хоть и необходимая. Как внешни и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы, с Кони вместе, через Нарышкину, добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца.
Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется (раскрывать себя не любил). Все же в письмах кое-что есть.
«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» (Суворину). «…Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает».
С ума он не сходил и всего менее был к этому подходящ, но «возмужал» – хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить: и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на «добрую землю». То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. «…После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться».
* * *
Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином, преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к «левой интеллигенции». Как бы то ни было, «Сахалин» вызвал сенаторскую ревизию каторги.
Несчастных книга не могла сделать счастливыми. Но в их горький быт улучшения внесла.
На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней, Чехов не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы, чудом, попал и сказал правду, то, как доктор «Палаты № 6», очутился бы сам там же.
«Отдых»
Россия восьмидесятых, начала девяностых годов – это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет, в общем же время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка – всё вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да, видно, не так легко по-настоящему его прорубить.
Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.
Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.
Суворин с сыном собирались в марте 91-го года за границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.
Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин-старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии – возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.
Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается.
Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты, и «одних галстухов в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность… «Да вообще все чертовски изящно» – еще шаг, и начнется Гоголь.
Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэли или Бауэра – «в лучшем отеле, как дожи», – что обошлось Чехову недешево, но отставать от Суворина было нельзя.
В Венеции же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка – нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».
Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».
На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже.
Ясно видишь, как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:
– Да, здесь все дешево… Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим… Дмитрий, сколько мы платим?
– Зи-и-на, восемнадцать франков!
– Слышите, Чехов… Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?
Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом: