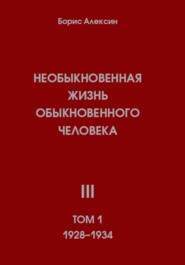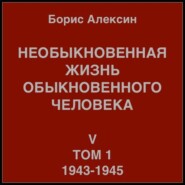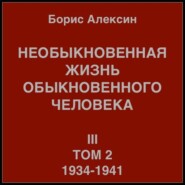По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да даже такая, в сущности, маленькая разница в возрасте, какая была у Бори с момента его выезда из Темникова и возвращения туда, уже принесла своё разочарование, что же будет дальше?..
Итак, Борис Алёшкин приехал в Темников 18 марта 1916 года, и его жизнь потекла по новому руслу. В последние полгода в Николо-Берёзовце он был, в сущности, полностью предоставлен самому себе. Никто не интересовался его успехами в школе, никто не заботился о его одежде, о его здоровье, кроме разве что Ксюши, но её заботы не могли, конечно, ни в какое сравнение идти с теми, которые сразу же охватили его в Темникове, где особенно первое время он не мог без опеки и помощи даже и вздохнуть. По его мнению, этих забот было гораздо больше, чем нужно, и он при первом же удобном случае пытался от них сбежать. Один раз такая попытка к бегству окончилась довольно плохо.
Боря ещё не окреп как следует после перенесённых болезней, и поэтому ему запрещалось уходить со двора. Но как удержишься, когда ребята, дети служащих гимназии, жившие в этом же дворе, носятся по окрестностям города и рассказывают, какие красивые водопады бегут сейчас по окружающим оврагам?
Однажды Боря улизнул-таки с ними и с увлечением лазил по оврагам, пуская в гремящих вешней водой ручьях сделанные из дощечек корабли. Пока его хватились и начали разыскивать, он успел не только основательно выпачкаться и промочить ноги, но, видимо, надышавшись свежего весеннего воздуха и стараясь не отстать от носившихся взад и вперёд ребятишек, так переутомился, что, перескакивая через один из ручьёв, быстро поднимаясь по крутому склону оврага, потерял сознание и скатился вниз, к счастью, не упав в воду. Когда ребятишки увидели его лежащим неподвижно, они испугались и помчались домой. Встретив по дороге Полю, искавшую мальчика, ребята рассказали ей о том, что случилось с Борей, чем перепугали и её. А он пришёл в себя, выбрался по крутой стенке оврага наверх и, не найдя своих товарищей, медленно брёл к городу, тут его и встретила Поля.
Приведя мальчишку домой, она обо всём рассказала бабусе, которая, в свою очередь, тоже встревожилась, особенно когда померив температуру внука, увидела, что она повышена. Как всегда в таких случаях, бабуся применила своё излюбленное лекарство: дала Боре полную столовую ложку касторки, и это было для него, пожалуй, самым страшным наказанием: касторку он ненавидел.
К радости бабуси и Бориному счастью, это происшествие никаких последствий не имело, и через несколько дней он бегал и играл во дворе как ни в чём не бывало, правда, уже убегать с ребятами больше не решался.
К хорошему привыкают быстро, и вскоре Боря так привык к заботам и ласкам, которыми его окружили, что иной жизни себе уже и не представлял.
Через месяц после приезда в Темников он был принят для продолжения учения в приготовительный класс мужской гимназии. По знаниям он вполне подходил, хотя по возрасту быть там ему было ещё и рановато. Учился Боря хорошо, чем доставлял огромное удовольствие бабусе. Огорчало её только его неумение и нежелание красиво и чисто писать.
Большое неудовольствие доставлял ей внук своим упрямством и особенно неряшливостью, которая, по её словам, у него была прямо-таки феноменальной.
Мария Александровна в совершенстве владела французским языком и два раза в неделю занималась им с внуком и внучкой. Жене эти занятия давались трудно, а мальчишка через месяц-полтора уже читал в учебнике французского языка все первые уроки, а иногда мог даже и ответить на кое-какие простые вопросы по-французски, чем очень её радовал.
Боря возобновил свою дружбу с Юрой Стасевичем и, несмотря на разницу в возрасте, очень сблизился с ним. Он стал довольно часто бывать в доме Стасевичей и встретил со стороны взрослых, знавших о его несчастии, сочувственное и дружеское внимание. Помогло сближению его с этой семьёй и следующее обстоятельство. В то время царским правительством разговор на языках, как тогда говорили инородческих, не разрешался. В центральных губерниях проживавшим там полякам, белорусам, украинцам, литовцам и др. не разрешалось говорить на улицах, в школах и в других общественных местах на их родном языке, они обязаны были говорить только по-русски.
Все эти люди, жившие в русских городах, переживали это тяжело, особенно те, которые были настроены националистически, а Стасевичи были именно такими. И если, стремясь избежать неприятностей, вне дома они говорили по-русски, то дома, чтобы не забыть польский язык, говорили только по-польски. Ещё совсем маленьким бывая у Стасевичей, часто и постоянно слыша польскую речь, мальчик, видимо, имея склонность к лингвистике, освоился с этим языком. Теперь, услышав снова польский язык, он обнаружил, что понимает всё, о чём говорят между собой Стасевичи. Взрослые это заметили и стали обращаться по-польски не только к своему сыну, но и к его дружку, а когда тот выполнял их требования или отвечал им на вопросы хотя и по-русски, но показывая ответом, что вопрос он понимает, это им очень нравилось. Он, вероятно, мог бы и сам говорить по-польски, но почему-то стеснялся.
Вскоре Боря познакомился и с сыном Маргариты Макаровны Армаш – Володей. Тот был ровесником Жени, очень часто болел и почти всегда или кашлял, или чихал, или был укутан каким-нибудь платком. Его мать, не чаявшая в нём души, окружала его такими заботами, таким наблюдением, что, как говорили, старалась не дать сесть на него и пушинке. Боря же привык к шумным играм, к относительной свободе в действиях и, если и вынужден был из-за перенесённых болезней сейчас в чём-то ограничивать себя, то мирился с этим с трудом. А у Армашей почти на каждом шагу слышалось:
– Тише, этого нельзя! Не бегайте – вспотеете! Не прыгайте – ушибётесь! Не кричите – охрипнете! Не стойте на ветру – простудитесь!
Это раздражало и злило непоседливого мальчишку, и он к Армашам ходил неохотно. Чрезмерные заботы о Володе, потакание многим его прихотям сделали его капризным, избалованным ребёнком, и его поведение с родителями, да и с приходившими к нему приятелями часто вызывало у Бори возмущение, а иногда и злость. Правда, впоследствии они всё-таки сумели приспособиться друг к другу и подружиться, но это произошло далеко не сразу.
Интересно посмотреть, как описывает этот период своей жизни и жизни приехавшего внука Мария Александровна Пигута. Так как в письме к своей подруге Ольге Ивановне Сперанской и вложенной в нём записке для сына она многое повторяет из тех писем, содержание которых мы уже знаем, то сейчас мы ограничимся лишь некоторыми выдержками.
Так, сыну она считает нужным повторно сообщить адрес Алёшкина, полученный ею ещё до отъезда в Москву и забытый дома: «… Сообщаю тебе адрес Алёшкина: ст. Иннокентьевская Сибирской железной дороги, 3-я школа прапорщиков, 1-я рота, 5-й взвод, обучаемому Я. М. Алёшкину».
Сперанской же пишет следующее: «…Вы правы, что мне пришлось навёрстывать потерянное время: много было запущено в делопроизводстве попечительского совета и очень много хлопот прибавилось с приездом Бори. Женя меня встретила со слезами радости и очень была рада приезду Бори, вообще, первые дни они играли очень ладно; пришлось только нанять швею и немедленно экипировать моего чужестранца. Но потом стала сказываться разница в воспитании и в поле: мальчик с очень живым и нервным темпераментом и не особенно привыкший слушаться, по первому слову соглашаться с запрещениями, начинал хныкать и даже плакать в таких случаях, когда Женю очень легко уговорить.
Вообще, он привык к самостоятельности и свободе, а доктора предписали ему довольно строгий режим после болезни и особенно запретили ему усиленные движения ногами. Сначала я оберегала его, но на днях случилось, он увлёкся беготнёй по песчаным холмам и оврагам и поплатился за это глубоким обмороком. Обморок этот случился во время его самовольной прогулки на первый день Пасхи, вчера я его продержала весь день в постели, а сегодня ещё не выпускаю на воздух, чтобы не подвергать его соблазну бегать. <…> Сама я чувствую себя вполне хорошо, то есть у меня ни разу ничего не болело, хотя утомляться приходилось волей-неволей. <…> Учение у нас продлится до 25 мая, экзаменов не будет, но педагогам придётся очень трудно, так как, кроме занятий, придётся проводить экскурсии…»
Рассказывая о внуке, Мария Александровна в описании его характера и поведения на новом месте и в новой обстановке не раз упоминает о его привычке к самостоятельности и строптивости, и тем не менее все её слова о нём проникнуты большой теплотой и любовью.
Переписка с сыном через знакомых явилась следствием тех ненормальных отношений, которые сложились между свекровью и невесткой, и, судя беспристрастно, надо признать, что виноваты в этом были они обе, а пожалуй, больше всех сын-муж, невольно ссоривший их.
«19/IV 1916 г.
Милый Митя, ты пишешь, что будешь в Москве и просишь написать в Москву. Не понимаю, как это будет, раз упомянутое твоё письмо, я получила лишь 17 апреля. Во всяком случае, делаю попытку писать в Москву на почтамт, до востребования.
Адрес Я. М. Алёшкина я уже послала в Кинешму в письме О. И. Сперанской, так как спохватилась, что кажется, забыла его раньше. Этот адрес годен лишь до первого мая, а письмо идёт туда дней десять, а дальше я не знаю, как ему писать. Недавно я получила от него письмо, он пишет, что исполнит всё по твоему указанию о высылке тебе доверенности на получение Нининого пенсионного капитала, а также другого документа по поводу усыновления детей Мирновым; эту другую бумагу он выслал на имя моего брата А. А. Шипова, как ему было указано.
К первому мая Алёшкин выйдет в прапорщики, устроит свои дела с женитьбой, а в дальнейшем не знает сам, где будет. Ожидает, что его опять пошлют на позиции, хочет заехать ко мне повидаться и поглядеть на Борю. Он упоминает, что ты выражал желание его видеть, и он со своей стороны очень хотел бы этого, но он не знает, где ты живёшь, живёшь ли ты в Костроме (в доме Охотникова) и застанет ли он тебя дома. <…>
Спасибо за вести о себе и о мальчике. Недавно мы были у Стасевичей, глядела я на их дочку (она родилась в декабре) и думала, что и твой сынок напоминает этого ребёнка, особенно по степени развития интеллекта; девочка у них славная.
Очень рада узнать, что ты поехал на съезд в Питер; знаю, как тебя это интересует. Вероятно, увидишь Лёлю или даже Рагозиных. <…>
Я чувствую себя хорошо, болей не бывает, только руки болят от впрыскивания мышьяка, а теперь и ноги, т. к. стали впрыскивать в ноги, чтобы дать отдохнуть рукам. Был ли ты у Гаусманна?
Боря всё ещё не совсем пришёл в норму: очень бледен, иногда жалуется на головную боль, не может много двигаться; я всё ещё не решаюсь сказать ему о смерти матери. Женя очень похудела за эту зиму; без меня у неё была ветряная оспа, и вообще какая-то она слабенькая стала. Крепко обнимаю. Мама».
Из этого письма видно, что Дмитрий Болеславович сумел-таки, по-видимому, используя адрес Алёшкина в Верхнеудинске, сообщить или Шалиной, или ему о смерти его первой жены, и сделал это, прежде всего, из меркантильных соображений.
Дело в том, что в то время все врачи состояли в Обществе врачей. При каждом губернском земском управлении был совет этого общества, а при нём – так называемая пенсионная касса. Каждый врач ежемесячно вносил в эту кассу определённый процент со своего заработка и имел право по достижении пенсионного возраста получать из этих денег пособие на жизнь. Если член кассы умирал раньше, то накопленные в кассе деньги выдавались его наследникам.
По существовавшим тогда законам, наследниками признавались законный муж (или жена) и законные дети. Законным мужем у Алёшкиной считался Я. М. Алёшкин, и поэтому право на получение денег из кассы имел только он.
Сумма, как оказалось, в пенсионной кассе была накоплена по тем временам довольно порядочная, а именно – 531 рубль. Деньги оставшимся после смерти Нины Болеславовны детям были очень нужны, особенно двум младшим, они ведь числились Алёшкиными и потому являлись законными наследниками денег, но их опекуном считался человек, числящийся их отцом, то есть Яков Матвеевич Алёшкин, и для того, чтобы получить эти деньги, от него требовалось заявление о передоверии своего опекунства кому-нибудь другому. После получения такого заявления дело могло быть разобрано в Сиротском суде и учреждена новая опека.
К счастью, это письмо Дмитрия Болеславовича каким-то образом дошло до Алёшкина, и он выслал необходимое заявление, после чего началась судебная волокита, и решение состоялось лишь 13 августа 1918 г., то есть почти через два года. Суд, наконец, дал право Дмитрию Пигуте распоряжаться вышеуказанными деньгами. Однако пользы детям Нины Болеславовны это решение уже не принесло: к этому времени деньги настолько упали в своей стоимости, что сумма в 531 рубль не могла обеспечить им и недельного существования.
В этом же письме Алёшкину Дмитрий Болеславович просил о высылке и другого документа – согласия на усыновление младших детей Нины Мирновым Николаем Геннадиевичем, их действительным отцом. Такое согласие Яков Матвеевич тоже выслал, но тут решение вопроса в соответствующих инстанциях затянулось на ещё более продолжительное время, и один из этих детей так никогда и не получил своей настоящей фамилии, а другой, вернее другая, получила её будучи уже почти взрослой.
Из комментируемого письма Марии Александровны видно, что и сам Алёшкин, живший с Анной Николаевной Шалиной в гражданском браке, узнав из письма Дмитрия Пигуты о смерти своей первой жены, поспешил оформить свой второй брак венчанием в церкви. Такая предусмотрительность в военное время для человека, находящегося в действующей армии, была далеко не лишней.
Во всех письмах Мария Александровна упоминает о находящихся на её попечении внуках с большой теплотой и любовью, чувствуется, что её мысли полны ими…
25 мая занятия в подготовительном классе были закончены, Боря показал неплохие успехи, потому они с бабусей надеялись, что осенью он успешно сдаст экзамены в первый класс гимназии. Пока же предстояло лето, и надо было организовать проведение его так, чтобы мальчик, перенёсший много нравственных волнений и тяжёлые болезни, как следует окреп.
А перед Марией Александровной возникла новая задача: она получила приглашение на Всероссийский учительский съезд в город Харьков. Ей, горячо любившей свою профессию, чрезвычайно хотелось на него попасть. Оставлять же детей почти на полмесяца одних, под присмотром только прислуги, она не решалась и была в очень затруднительном положении. Выручили, как всегда, друзья.
Янина Владимировна Стасевич предложила на это время привезти детей в лесничество, где они будут находиться вместе с её детьми. Пигута с благодарностью воспользовалась этим предложением, а для детей это явилось неожиданной и очень приятной радостью.
В письме от 19 мая 1916 года Мария Александровна сообщает сыну о предполагаемой поездке: «…Целую неделю собиралась написать тебе, но всё это время было очень много работы. Гаусманн ожидает, что я буду в Москве в мае и покажусь ему. Но я спешу тебя уверить, что чувствую я себя прекрасно. <…> В Москву ехать мне было бы очень тяжело, если бы не представился удобный случай: в Харькове при учебном округе открывается педагогический съезд, и для поездки мне отпускаются прогоны и суточные от попечительного совета гимназии. Ехать придётся через Москву, где я смогу задержаться на 2–3 дня. Очень бы хотелось повидать тебя, но остановку в Москве мне было бы удобнее делать на обратном пути, при возвращении в Темников, то есть числа 12–13 июня. Выехать из Темникова я смогу не раньше 28 мая, съезд назначен на первое июня, следовательно, задерживаться в Москве было бы нежелательно во всех отношениях:
1) мне необходимо поспеть к открытию съезда, так как придётся делать доклад;
2) я потеряю милую попутчицу Анну Захаровну Замошникову, с которой я выезжаю из Темникова и хотела бы доехать до самого Харькова; она приглашает меня погостить у неё во время съезда в доме её матери. Поэтому мне было бы удобнее остановиться в Москве 12–13 июня.
Хотелось бы иметь от тебя ответ до моего отъезда из Темникова, можешь ли ты быть в Москве в это время; из Харькова я напишу день в точности и сообщу, где меня найти в Москве…»
Помимо большой подробности в описании планов своей поездки в Харьков, которая, очевидно, очень волновала старую учительницу (в то время такие съезды были ведь редкостью), в письме – горячее желание увидеться с сыном, и в то же время вновь полное игнорирование его жены: ни привета ей, ни вопроса, хотя бы из приличия, о состоянии её здоровья – ничего. Конечно, такие письма, попадая в руки молодой, самолюбивой, гордой женщины, её обижали и вызывали в ней к свекрови чувство справедливого негодования.
Причина такого отношения Марии Александровны, бывшей, в общем-то, очень доброй и отзывчивой женщиной, к своей невестке, так до конца её жизни и осталась неизвестной.
В этот же период времени, отвечая на настойчивые запросы Дмитрия Болеславовича, продолжавшего беспокоиться о здоровье матери, Янина Владимировна Стасевич сообщает ему в письме: «С радостью спешу исполнить Вашу просьбу и написать Вам поподробнее о Вашей маме. Из ежедневных почти разговоров с ней и последнего осмотра я вынесла такое впечатление, что физически она, безусловно, поправилась: ей прибыло шесть с половиной фунтов, болей не было ни разу, аппетит хороший. Что касается состояния нервной системы, то меня оно не удовлетворяет: по-моему, у неё слишком много энергии и жажды деятельности. Недавно, когда я заикнулась о том, что хорошо бы, если бы она не так много металась по всем собраниям и делам, она мне ответила, что если у неё найдётся такой день, в который дел мало и можно бы отдохнуть, то у неё делается скверное самочувствие. Мне кажется, что эти слова характеризуют состояние её нервов. <…> Лекарства она первое время принимала, а теперь и слушать не хочет: говорит, что ей совсем немыслимо помнить, что когда пить, что ей слишком тяжело вскакивать с постели в шесть часов, чтобы пить боржом с висмутом и т. д. Что касается её поездки в Москву, то хотя она мне категорически заявила, что это равносильно для неё новой болезни, но всё-таки я уверена, что мне удастся отправить её. Она очень уж Вас любит и очень ей неприятно огорчить Вас. Вот этот-то большой козырь в моих руках и поможет мне выиграть.
Ещё неожиданно на днях так устроились дела в гимназии, что Мария Александровна вызвалась ехать на педагогический съезд в Харьков к первому июня. Я думаю, что это, конечно, вовсе не необходимо, чтобы она там была, но не отговариваю, в надежде, что Вы увидитесь с ней перед съездом в Москве и, если найдёте нужным, сами отговорите её. Детей я на всё время её отсутствия хочу взять к себе, и, кажется, она ничего не имеет против».
В начале июня Мария Александровна, сообщая сыну о работе съезда, о том, как тепло она была принята в семье Замошниковых, назначает ему встречу в Москве на 13 июня.
Глава тринадцатая