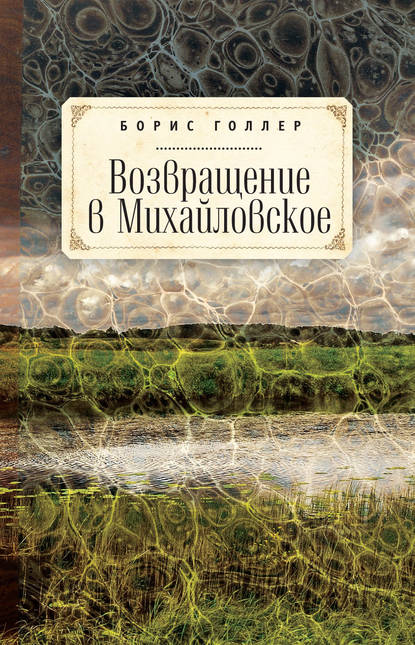По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвращение в Михайловское
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Королева Луиза – первая красавица Европы… к кому не остался равнодушен сам Бонапарт – то есть, сделал вид, что остался (равнодушен) – но не остался. (Жозефина после, в Париже – допрашивала Александра – не было ль у ее мужа в Тильзите – романа с Луизой?). Нет! Луиза была добродетельна и чиста. Но Александра она домогалась всеми силами. Он мог часами сидеть у ее ног и ласкать их под платьем. Она умирала, шептала неразборчивые слова…
Луиза говорила про мужа: – Не сказать, что он ничего не может! Может! Но – как чиновник, понимаете? Представляете меня… женой чиновника? Еще немецкого? Я только должна рожать ему детей! Наследников. А что наследовать им? Слабое королевство – полуразоренное? Бывшую армию Фридриха – что терпит одни поражения? А в постели он старателен. Такой крепкий одноразовик! – сказано было по-французски и выходило не так грубо.
Но когда она спросила: – Я увижу государя сегодня ночью?.. Александр ответил твердо: – Нет. Нет!
– Но почему, почему?..
– Здесь граница, – сказал он, улыбаясь с нежностью, чтоб смягчить удар.
– Предел отношений – государей и царств! – и на ночь запер дверь на ключ, и еще проверил – убедиться, что запер. Он дважды выдержал этот искус. В Петер бурге и в Потсдаме. И был горд собой…
…Когда они спустились в склеп, ночью, все трое (с ее мужем) – и руки их троих скрестились в торжественной клятве над гробом Фридриха Великого: почти масонский ритуал, священный союз, конечно, против Бонапарта, – Александр боялся рассмеяться. Ему все вспоминалось – «крепкий одноразовик»!
И прусская армия его разочаровала: На смотру он откровенно скучал и хотел, чтобы все скорей кончилось. Пруссаки были не лучше баварцев – честное слово, а те уж вовсе – не солдаты! И за что его отец так любил пруссаков? (Бедный отец!). Александр презирал Фридриха-Вильгельма – за то, что тот мог отпустить Луизу – одну, без себя – на переговоры с Бонапартом, в его шатер… В надежде, что ее красота поможет добиться уступок Пруссии. Он сам был неважный муж Элизе, и она – неверная жена… но он бы ее – не отпустил! Даже если б самому грозила потеря трона!
…Неужто ее муж жил с родной сестрой? А зачем он ездил в Англию после Парижа? В Лондон? Ему вовсе нечего было там делать. И Катиш принимала его в своем дому – она уже вдовела, ее Ольденбургский погиб в 12-м… Тогда было очень много павших! Брат с сестрой… Элиза боялась всегда, что это выйдет на свет. Она была несчастливая императрица – но императрица! И обязана была беречь честь государя. Благославенный! – титул, какой подносили ему от имени народа – но он не принял. – Ему прощали почти все – этого бы ему не простили!
…Он, и вправду, дорожил лаской – больше, чем завершением… Он был так устроен. Дура-Нарышкина сердилась – и звала это «дразнилкой». (Вот уж – душа без приданого!) Багратионша тоже – никак не могла взять в толк. – Ваше величество чем-то расстроены? – когда он был в лучшем настроении. Она очень торопилась к посеву – привычка к нетерпеливым любовникам… Но она была гладиатор в любви, что правда – то правда! Его храбрецы-офицеры могли спокойно спать в своих холодных постелях – от Вильно до Москвы и от Малоярославца до Лейпцига. Их жены теперь сражались за них. – Ну, правда, в другой позиции!.. А там, на конгрессе в Вене – вообще все спуталось, все будто с ума посходили. Бакхическая оргия. Старая Европа праздновала победу над Бонапартом, который чуть было не перекроил – ее, порядком поистлевшую, карту… И всем хотелось быть победителями – во всех смыслах.
– А Фотий, по-моему, просто – православный Савонарола! – тебе не кажется?
– Почему – Савонарола? Не знаю. Может быть… – он пожал плечами и взял карты в талоне. Там уже почти ничего не осталось.
– Ну, может, нашему миру, как раз сейчас – и не хватает Сованаролы?
…Валет червей, десятка червей и дама… Может, квинта? Козырная? Квинта – это сразу 250 поэнов! Мелочь он посбрасывал. – Азарт политика – значит, игрока – слегка раздул ноздри его скульптурно вылепленного носа.
…И вовсе Жозефина была не так стара! Если б не была она такой потерянной, такой усталой! – при этом она все равно оставалась царственной, и к ней никак не подходило словечко» экс» – «экс-императрица» (Александр вдруг приставил мысленно это «экс» к себе – «экс-император», ему не понравилось) – он бы с удовольствием добился близости с ней… с не меньшим удовольствием, чем с молодой Гортензией. Он мог бы с ее помощью постичь Бонапарта. Ему нужно было постичь!.. То был единственный человек его времени, который сумел оставить мировое поле брани – совсем не таким – на какое вступил. Он знал, что одолел Бонапарта силой – но не победил!..
– По-моему, она просто истеричка! Кликуша!
– Кто?
– Ну, эта Орлова! Верно, от некрасивости!.. Она, что – любовница этого монаха?
– Фотия? Не думаю. Духовная дочь! Бывает ведь и просто связь по духу! – Духовные дети… – сказано было не без ехидства.
…Господь не захотел благославить его детей! Это он раньше думал, что Голицын или Кошелев помогут ему вымолить прощенье. Иль хотя бы Криденер. Голицын не смог. Она не смогла. Пусть будет Фотий!..
Элиза взглянула на него с испугом. Неужто он на исповеди – способен выдать ее Фотию? – не только свои грехи – но и ее… И этот неопрятный монах с темным горящим глазом все знает? Сама она тоже была религиозной – и чем дальше – больше, но не терпела духовников.
– О-о! – сказал он обрадованно. Сейчас объявит квинту – или что-нибудь подобное. Он выигрывал – как всегда в жизни.
– В свете только и разговоров, как вы возлежите с ним на камнях в его монастыре перед распятием. И как ты целуешь ему руку при встрече!
– Ах, милая! я перецеловал в своей жизни столько – куда более грязных рук!
…Он снова вспомнил маленького человека, с брюшком, с плебейской манерой держать руки скрещенными на груди и глядеть исподлобья, и с ужасающим корсиканским французским – который так раздражал русских генералов – для кого французский был родным. Император из лейтенантов! Он, Александр, подписавший вместе с семью государями анафему ему, бежавшему с Эльбы: «Наполеон поставил себя вне гражданских и социальных законов» – за это именно более всего и уважал его. Это стоило, пожалуй, всех его побед. Как? Несчастному изгнаннику, побежденному… высадиться на пустынном берегу, всего с несколькими сторонниками – и… чтобы вся Франция, смертельно уставшая от тебя, от твоих войн, потерявшая в них три поколения своей юности – вышла тебе навстречу?.. Он боялся задать себе вопрос – что было бы, если б…
– Аракчеев! – сказала вдруг Элиза про себя почти в уверенности. – Аракчеев! – Она боялась раньше назвать это имя… – Вот, кто приказал убить Охотникова! – Она ненавидела его всегда. Несчастный! Его никогда не любили женщины. Недаром он путался с этой крепостной! – Как ее звали? Настасья Минкина! Настасья!.. А если не он? – и кто скажет точно?.. Все равно! Она ненавидела этого человека – и не могла понять, почему ее Александр так всегда приближал его…
– Я думаю только о престиже государя, – сказала она строго. – Чувство вкуса. А так… Какая-то мрачная мистерия!..
– Считай, что мы жили с тобой – в эпоху мистерий! (и улыбнулся по-детски.)
– И лишь сестра Екатерина понимала его. Катишь… Бизям Бизямовна… дитя, нежность! Они были – как из одного куска мрамора!
…Инцест! Единственная из женщин… Может, Господь – там, наверху – устроит им свидание? И сделает так, что там они уже не будут братом и сестрой?.. Инцест. Какое страшное слово – царапает ухо. Одно сплошное «цэ»… Ин-цест! Правда, говорят, у Байрона – кумира нынешних либералистов – было тоже что-то в этом роде…
Он помолчал и сказал – спокойно: – Приготовьтесь, Элиза!
Она приподнялась. – К чему? (почти без голоса). Будто готовая выслушать приговор – и снова села. Она ждала это всю жизнь. Сейчас он объявит о разводе. Как Бонапарт Жозефине. Она ведь тоже не смогла даровать мужу наследника. (Она усилием сдержала кашель. Не хотелось в этот миг еще выглядеть жалкой.) Он женится на юной – как Бонапарт. Он еще не стар. Ему будет – кому оставить это мрачное царство…
– Осталось три года – и мы уедем.
– Куда? – Она узнала голос девочки, которая стояла с ним в классе – а он показывал ей рисунки. Она совсем растерялась.
– Не знаю. Куда-нибудь. На курорт, в Швейцарию… Лечить твой кашель… Посмотрим!
– А Россия, а царство?..
– Мне сорок семь. Ровно в пятьдесят я откажусь от престола.
– Постой! А кто будет?..
– Николай! Я ж говорил тебе! Я составил письмо, хранится в Москве…
– Я думала… еще только мысли…
– Решение! – сказал он жестко. – Решение. Вы не против?
– А что мы будем делать?
– Лечиться. Отмаливать грехи, собирать цветы. В этих Альпах – пропасть прекрасных цветов… Помнишь – твои венки в юности? Психея! (Он улыбнулся – и добавил.) Представь… когда-нибудь… Николай и Александрина – едут по Невскому. В экипаже – и под приветственные клики… А мы стоим в толпе, среди малых сих – и тоже машем рукой!..
– Я согласна, – сказала она – почти без раздумья. – Разумеется. Куда бы ты ни сказал… я согласна!
Эта женщина должна была быть его первой любовью, но, кажется, могла стать последней.
Чуть погодя – партию он выиграл – он вышел пройтись по парку. Начинало смеркаться. Аллеи темнели, как жизнь – что была еще впереди… Он увидел невдалеке стайку лицеистов – они шли парами, во всем оживлении юности. Строя из них не получалось. Он быстро свернул в другую аллею – чтоб избежать встречи, и надвинул шляпу. Лицей будил тоскливые мысли. Он сам его придумал некогда – среди прочего, он хотел, чтоб там учились со всеми его младшие братья. Николай и Михаил. Но матушка стала в позу: – Ваше величество позволит, я думаю – вдове воспитывать своих сыновей по собственному разумению, а не по прихоти… заезжих либералистов?
И хотя ему не нравилось, как воспитывали его братьев, – генерал Ламздорф, по его сведениям, старался сделать из них гатчинцев, как при Павле, и, говорят, частенько их бивал (из него самого, когда-то – пытались сделать гатчинца) – он сдался. – Как сдавался не раз (и не только матери). Вдова убитого отца, в самом деле, имела право на свои мнения и капризы. Хотя он думал и теперь – что если б братья поучились в Лицее… Они б, может, смогли довершить то, что он когда-то начинал… а после забросил – не получилось. Лицей был очередной его неудачей. Не самой главной, но… Картина мира, какая рисовалась ему, когда он только шел к трону, так и не удалась ему!
Недавно он уволил профессора Куницына. Того самого, что некогда бле стящей и вольной речью – открыл Лицей. Все радовались – какой у нас государь (позволяет!), и сам государь аплодировал чуть не больше всех…
Еще, этим летом, он выслал в имение – одного из первых лицеистов. Пуш кина, поэта. Его просил Воронцов. А он, опять же, не хотел отказывать Воронцову. Что такое власть? Это – когда все чего-то просят и нужно решаться – кому можно отказать, а кому нельзя. Воронцову было нельзя, хотя… Он вовсе не благоволил Воронцову. Тот раздражал его – еще с Тильзита. Его прелестная жена (только полновата, пожалуй) – отвергла некогда притязания императора – и сделала это весело и легко: – Надеюсь, у вашего величества есть в достатке верноподданных дам, более достойных этой чести! – Впрочем… у того молодого человека – у Пушкина – были еще грехи… Крамольные вирши, ода «Свобода». Зачем они лезут в политику – эти поэты, когда в мире столько прекрасного?.. Дурень Милорадович так и не показал ему стихов – клялся-божился, что затерял. Мания покровительствовать изящным искусствам! Это у него – от любви к балеринам. Впрочем… Может, просто боялся – как все боятся. У стихов ведь в этом случае был бы не только автор – но и читатель – сиречь, сам Милорадович. Не знал, конечно, что Александру давно прислали другие копии. (Не все, наверно, не все!) Василий Каразин прислал – чиновник по Министерству просвещения. Похоже – идет вверх… Каразин не испугался.
Темнело. Он вышел к пруду. Цепочка лицеистов вдалеке уже, виясь – тонкой струйкой свободы – утекала в темноту. Как молодость. Еще три года – и он уходит от царства.
Луиза говорила про мужа: – Не сказать, что он ничего не может! Может! Но – как чиновник, понимаете? Представляете меня… женой чиновника? Еще немецкого? Я только должна рожать ему детей! Наследников. А что наследовать им? Слабое королевство – полуразоренное? Бывшую армию Фридриха – что терпит одни поражения? А в постели он старателен. Такой крепкий одноразовик! – сказано было по-французски и выходило не так грубо.
Но когда она спросила: – Я увижу государя сегодня ночью?.. Александр ответил твердо: – Нет. Нет!
– Но почему, почему?..
– Здесь граница, – сказал он, улыбаясь с нежностью, чтоб смягчить удар.
– Предел отношений – государей и царств! – и на ночь запер дверь на ключ, и еще проверил – убедиться, что запер. Он дважды выдержал этот искус. В Петер бурге и в Потсдаме. И был горд собой…
…Когда они спустились в склеп, ночью, все трое (с ее мужем) – и руки их троих скрестились в торжественной клятве над гробом Фридриха Великого: почти масонский ритуал, священный союз, конечно, против Бонапарта, – Александр боялся рассмеяться. Ему все вспоминалось – «крепкий одноразовик»!
И прусская армия его разочаровала: На смотру он откровенно скучал и хотел, чтобы все скорей кончилось. Пруссаки были не лучше баварцев – честное слово, а те уж вовсе – не солдаты! И за что его отец так любил пруссаков? (Бедный отец!). Александр презирал Фридриха-Вильгельма – за то, что тот мог отпустить Луизу – одну, без себя – на переговоры с Бонапартом, в его шатер… В надежде, что ее красота поможет добиться уступок Пруссии. Он сам был неважный муж Элизе, и она – неверная жена… но он бы ее – не отпустил! Даже если б самому грозила потеря трона!
…Неужто ее муж жил с родной сестрой? А зачем он ездил в Англию после Парижа? В Лондон? Ему вовсе нечего было там делать. И Катиш принимала его в своем дому – она уже вдовела, ее Ольденбургский погиб в 12-м… Тогда было очень много павших! Брат с сестрой… Элиза боялась всегда, что это выйдет на свет. Она была несчастливая императрица – но императрица! И обязана была беречь честь государя. Благославенный! – титул, какой подносили ему от имени народа – но он не принял. – Ему прощали почти все – этого бы ему не простили!
…Он, и вправду, дорожил лаской – больше, чем завершением… Он был так устроен. Дура-Нарышкина сердилась – и звала это «дразнилкой». (Вот уж – душа без приданого!) Багратионша тоже – никак не могла взять в толк. – Ваше величество чем-то расстроены? – когда он был в лучшем настроении. Она очень торопилась к посеву – привычка к нетерпеливым любовникам… Но она была гладиатор в любви, что правда – то правда! Его храбрецы-офицеры могли спокойно спать в своих холодных постелях – от Вильно до Москвы и от Малоярославца до Лейпцига. Их жены теперь сражались за них. – Ну, правда, в другой позиции!.. А там, на конгрессе в Вене – вообще все спуталось, все будто с ума посходили. Бакхическая оргия. Старая Европа праздновала победу над Бонапартом, который чуть было не перекроил – ее, порядком поистлевшую, карту… И всем хотелось быть победителями – во всех смыслах.
– А Фотий, по-моему, просто – православный Савонарола! – тебе не кажется?
– Почему – Савонарола? Не знаю. Может быть… – он пожал плечами и взял карты в талоне. Там уже почти ничего не осталось.
– Ну, может, нашему миру, как раз сейчас – и не хватает Сованаролы?
…Валет червей, десятка червей и дама… Может, квинта? Козырная? Квинта – это сразу 250 поэнов! Мелочь он посбрасывал. – Азарт политика – значит, игрока – слегка раздул ноздри его скульптурно вылепленного носа.
…И вовсе Жозефина была не так стара! Если б не была она такой потерянной, такой усталой! – при этом она все равно оставалась царственной, и к ней никак не подходило словечко» экс» – «экс-императрица» (Александр вдруг приставил мысленно это «экс» к себе – «экс-император», ему не понравилось) – он бы с удовольствием добился близости с ней… с не меньшим удовольствием, чем с молодой Гортензией. Он мог бы с ее помощью постичь Бонапарта. Ему нужно было постичь!.. То был единственный человек его времени, который сумел оставить мировое поле брани – совсем не таким – на какое вступил. Он знал, что одолел Бонапарта силой – но не победил!..
– По-моему, она просто истеричка! Кликуша!
– Кто?
– Ну, эта Орлова! Верно, от некрасивости!.. Она, что – любовница этого монаха?
– Фотия? Не думаю. Духовная дочь! Бывает ведь и просто связь по духу! – Духовные дети… – сказано было не без ехидства.
…Господь не захотел благославить его детей! Это он раньше думал, что Голицын или Кошелев помогут ему вымолить прощенье. Иль хотя бы Криденер. Голицын не смог. Она не смогла. Пусть будет Фотий!..
Элиза взглянула на него с испугом. Неужто он на исповеди – способен выдать ее Фотию? – не только свои грехи – но и ее… И этот неопрятный монах с темным горящим глазом все знает? Сама она тоже была религиозной – и чем дальше – больше, но не терпела духовников.
– О-о! – сказал он обрадованно. Сейчас объявит квинту – или что-нибудь подобное. Он выигрывал – как всегда в жизни.
– В свете только и разговоров, как вы возлежите с ним на камнях в его монастыре перед распятием. И как ты целуешь ему руку при встрече!
– Ах, милая! я перецеловал в своей жизни столько – куда более грязных рук!
…Он снова вспомнил маленького человека, с брюшком, с плебейской манерой держать руки скрещенными на груди и глядеть исподлобья, и с ужасающим корсиканским французским – который так раздражал русских генералов – для кого французский был родным. Император из лейтенантов! Он, Александр, подписавший вместе с семью государями анафему ему, бежавшему с Эльбы: «Наполеон поставил себя вне гражданских и социальных законов» – за это именно более всего и уважал его. Это стоило, пожалуй, всех его побед. Как? Несчастному изгнаннику, побежденному… высадиться на пустынном берегу, всего с несколькими сторонниками – и… чтобы вся Франция, смертельно уставшая от тебя, от твоих войн, потерявшая в них три поколения своей юности – вышла тебе навстречу?.. Он боялся задать себе вопрос – что было бы, если б…
– Аракчеев! – сказала вдруг Элиза про себя почти в уверенности. – Аракчеев! – Она боялась раньше назвать это имя… – Вот, кто приказал убить Охотникова! – Она ненавидела его всегда. Несчастный! Его никогда не любили женщины. Недаром он путался с этой крепостной! – Как ее звали? Настасья Минкина! Настасья!.. А если не он? – и кто скажет точно?.. Все равно! Она ненавидела этого человека – и не могла понять, почему ее Александр так всегда приближал его…
– Я думаю только о престиже государя, – сказала она строго. – Чувство вкуса. А так… Какая-то мрачная мистерия!..
– Считай, что мы жили с тобой – в эпоху мистерий! (и улыбнулся по-детски.)
– И лишь сестра Екатерина понимала его. Катишь… Бизям Бизямовна… дитя, нежность! Они были – как из одного куска мрамора!
…Инцест! Единственная из женщин… Может, Господь – там, наверху – устроит им свидание? И сделает так, что там они уже не будут братом и сестрой?.. Инцест. Какое страшное слово – царапает ухо. Одно сплошное «цэ»… Ин-цест! Правда, говорят, у Байрона – кумира нынешних либералистов – было тоже что-то в этом роде…
Он помолчал и сказал – спокойно: – Приготовьтесь, Элиза!
Она приподнялась. – К чему? (почти без голоса). Будто готовая выслушать приговор – и снова села. Она ждала это всю жизнь. Сейчас он объявит о разводе. Как Бонапарт Жозефине. Она ведь тоже не смогла даровать мужу наследника. (Она усилием сдержала кашель. Не хотелось в этот миг еще выглядеть жалкой.) Он женится на юной – как Бонапарт. Он еще не стар. Ему будет – кому оставить это мрачное царство…
– Осталось три года – и мы уедем.
– Куда? – Она узнала голос девочки, которая стояла с ним в классе – а он показывал ей рисунки. Она совсем растерялась.
– Не знаю. Куда-нибудь. На курорт, в Швейцарию… Лечить твой кашель… Посмотрим!
– А Россия, а царство?..
– Мне сорок семь. Ровно в пятьдесят я откажусь от престола.
– Постой! А кто будет?..
– Николай! Я ж говорил тебе! Я составил письмо, хранится в Москве…
– Я думала… еще только мысли…
– Решение! – сказал он жестко. – Решение. Вы не против?
– А что мы будем делать?
– Лечиться. Отмаливать грехи, собирать цветы. В этих Альпах – пропасть прекрасных цветов… Помнишь – твои венки в юности? Психея! (Он улыбнулся – и добавил.) Представь… когда-нибудь… Николай и Александрина – едут по Невскому. В экипаже – и под приветственные клики… А мы стоим в толпе, среди малых сих – и тоже машем рукой!..
– Я согласна, – сказала она – почти без раздумья. – Разумеется. Куда бы ты ни сказал… я согласна!
Эта женщина должна была быть его первой любовью, но, кажется, могла стать последней.
Чуть погодя – партию он выиграл – он вышел пройтись по парку. Начинало смеркаться. Аллеи темнели, как жизнь – что была еще впереди… Он увидел невдалеке стайку лицеистов – они шли парами, во всем оживлении юности. Строя из них не получалось. Он быстро свернул в другую аллею – чтоб избежать встречи, и надвинул шляпу. Лицей будил тоскливые мысли. Он сам его придумал некогда – среди прочего, он хотел, чтоб там учились со всеми его младшие братья. Николай и Михаил. Но матушка стала в позу: – Ваше величество позволит, я думаю – вдове воспитывать своих сыновей по собственному разумению, а не по прихоти… заезжих либералистов?
И хотя ему не нравилось, как воспитывали его братьев, – генерал Ламздорф, по его сведениям, старался сделать из них гатчинцев, как при Павле, и, говорят, частенько их бивал (из него самого, когда-то – пытались сделать гатчинца) – он сдался. – Как сдавался не раз (и не только матери). Вдова убитого отца, в самом деле, имела право на свои мнения и капризы. Хотя он думал и теперь – что если б братья поучились в Лицее… Они б, может, смогли довершить то, что он когда-то начинал… а после забросил – не получилось. Лицей был очередной его неудачей. Не самой главной, но… Картина мира, какая рисовалась ему, когда он только шел к трону, так и не удалась ему!
Недавно он уволил профессора Куницына. Того самого, что некогда бле стящей и вольной речью – открыл Лицей. Все радовались – какой у нас государь (позволяет!), и сам государь аплодировал чуть не больше всех…
Еще, этим летом, он выслал в имение – одного из первых лицеистов. Пуш кина, поэта. Его просил Воронцов. А он, опять же, не хотел отказывать Воронцову. Что такое власть? Это – когда все чего-то просят и нужно решаться – кому можно отказать, а кому нельзя. Воронцову было нельзя, хотя… Он вовсе не благоволил Воронцову. Тот раздражал его – еще с Тильзита. Его прелестная жена (только полновата, пожалуй) – отвергла некогда притязания императора – и сделала это весело и легко: – Надеюсь, у вашего величества есть в достатке верноподданных дам, более достойных этой чести! – Впрочем… у того молодого человека – у Пушкина – были еще грехи… Крамольные вирши, ода «Свобода». Зачем они лезут в политику – эти поэты, когда в мире столько прекрасного?.. Дурень Милорадович так и не показал ему стихов – клялся-божился, что затерял. Мания покровительствовать изящным искусствам! Это у него – от любви к балеринам. Впрочем… Может, просто боялся – как все боятся. У стихов ведь в этом случае был бы не только автор – но и читатель – сиречь, сам Милорадович. Не знал, конечно, что Александру давно прислали другие копии. (Не все, наверно, не все!) Василий Каразин прислал – чиновник по Министерству просвещения. Похоже – идет вверх… Каразин не испугался.
Темнело. Он вышел к пруду. Цепочка лицеистов вдалеке уже, виясь – тонкой струйкой свободы – утекала в темноту. Как молодость. Еще три года – и он уходит от царства.