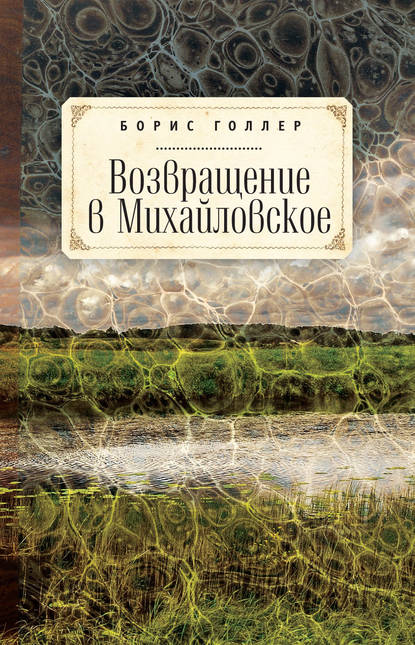По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвращение в Михайловское
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как-то перед вечером – или в начале вечера, сидя за общим столом – в зале – среди общего шума – и уверенный, что все сидят за столом – он вышел в другую комнату. Хотелось побыть с собой. Не глядя открыл дверь в соседнюю и… натолкнулся на Прасковью Александровну, примерявшую платье. Она стояла перед зеркалом – и как-то замедленно вертелась перед ним – один бок, другой. Увидела его, чуть смутилась – но не прогнала, только чуть отодвинула от себя шандал со свечами. Став больше силуэтом самой себя… Капора не было. Платка тоже не было. Копна распущенных и все еще пышных волос – упала на плеча. Платье было открытым – может, слишком – по возрасту. Нагие плечи, грудь… И шея – боже мой! Выдвинутая губка Марии-Антуанетты, делавшая ее порой некрасивой – сейчас была полуоткрыта, как для поцелуя. Он вздрогнул.
– Ну как? Мне идет? – спросила она и вновь повернулась к зеркалу.
– Очень! – сказал Александр искренне. – Очень!..
– Вот… а вы все считаете… – не договорила.
– … что я старуха! (слышалось и без слов).
Правду ль говорят, что вся французская революция произошла от ненасытности Марии-Антуанетты? Так рушатся царства!..
Она так и стояла, как он застал ее – прижав ладонями бедра, чуть вытянув руки и несколько приподняв платье.
– Иногда знаете, кажется, что не все потеряно… а иногда…
Она улыбнулась – и протянула ему руку. Подумав – протянула обе. Он поцеловал их по очереди – как целовал руки только нравившихся ему женщин. У него чуть кружилась голова.
– Спасибо! – сказала она. – Спасибо!
Он поклонился и вышел, смущенный… точно подглядел нечаянно то, что не следовало видеть. Старушка Ларина? Два брака – и нет счастья! Боже мой – что это такое – счастье?! Наверно – самая мудреная вещь на свете! Или самая трудная…
В зале девчонки насиловали рояль, грохот ворвался в уши. Он рассердился. Не сильно…
«О, Валери! В то время я с гордостью ощущал биение своего сердца… которое умело так любить тебя!»
…книгу будет трудно возвращать – никто ж не поймет, почему – он так испещрил ее подчерками?.. «Хранили многие страницы – Заметы резкие ногтей…» С тех пор, как он стал писать «Онегина», вся его жизнь, как навоз – сделалась удобрением этому роману. Он все готов был отдать ему, отделивши от себя. Такого еще не было! То, что сперва казалось легким изыском… заигрываньем с читателем – чуть не светской болтовней с ним – становилось природой книги. Его самобытие невольно поселилось в романе. Он сам возник где-то – меж Онегиным и Ленским – пора меж волка и собаки… – и, право, не знал, что делать с собой. Всякий персонаж должен куда-то двигаться. От чего к чему? И куда идет он сам?..
«Вся жизнь моя была залогом – Свиданья нашего с тобой, – Я знаю, ты мне послан Богом…» – он знал, что оно уже написано – это письмо.
«– Я не расстаюсь с вами, мне еще столько нужно вам сказать! – Она закрыла за собой дверь, а я упал в кресла, уничтоженный этим звуком: мне показалось, что вселенная рухнула…
Насколько больше я любил бы тебя, Валери!..»[13 - Юлия Крюденер. Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г…. Сер. «Лит. памятники», М., 2000 г.]
Схолия
* Подробное исследование пушкинских помет на экземпляре романа «Валери» Юлии Крюденер принадлежит Л. И. Вольперт[14 - Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М., 1998. С. 77–85.]. Здесь использовано это прочтение. Правда, автор книги «Пушкин в роли Пушкина» считает пометы неким слитным «лирическим письмом», составленным из подчеркнутых мест и обращенным к А. П. Керн. Это кажется сомнительным. Адресат вряд ли назван верно (Это станет ясней, когда у нас здесь появится сама Анна Керн.) Весь контекст отношений с Керн лета 1825-го (начиная с заочного этапа – переписка с Родзянко) – в самом деле, отдает «игрой», «игровым поведением», о котором прекрасно говорит автор книги, что как-то не соотносится с тональностью «нежного романа», каким является «Валери». За этими пометами стоит иная, трагическая история любви. И почти несомненно – это история любви к Е. К. Воронцовой.
** Надо сказать, несмотря на более чем полуторастолетнюю историю изучения «Онегина» и обширнейший корпус черновых набросков к роману – сама история создания его до конца не известна по сей день. Начало, и впрямь, наверно, было несколько поспешным и случайным. («Пишу роман, в котором забалтываюсь донельзя…»). Можно утверждать, что плана, как такового, еще не было – во всяком случае, того, по которому после развился роман. Вряд ли Пушкин даже знал, к примеру, начиная его – что Онегин убьет Ленского в дуэли. «Трагедия победы» – по точному выражению Ю. Лотмана – это придет потом… Нужно было пережить серьезнейшую личную – а потом и общественную драму, чтоб роман стал диктовать автору свои законы…
Вставная глава I
Царям живется на свете не легче, чем их подданным. Император Александр, о котором его тезка в Михайловском все чаще думал в последнее время (это ж он его упек в эту дыру за строчку глупого письма, чем привел в великий страх его отца!) – вряд ли помышлял о нем. У Александра-государя были другие дела и заботы. Примерно, в те же дни, что мы описываем здесь, – в первой половине сентября 1824-го, в Царском – он сидел, уединившись с женой-императрицей, Елизаветой Алексеевной, в одной из комнат, примыкавших непосредственно к кабинету, и предавался карточной игре. – Это сделалось частым, с некоторых пор, послеобеденным их времяпрепровождением. Ломберный столик, богато ин крустированный уральскими самоцветами, разделял играющих, мольберт, придви нутый к столу, напротив, был совсем прост, похож на художнический, только с грифельной доской – на ней отписывались фиши. Государь как-то брезговал писать мелом на сукне пред собой: он был сноб…
Игра называлась – «безик». В России вечно норовят сместить французское ударение с последнего слога: вообще-то, «безик», конечно. Бези?к. Бе?зик. Игру он вывез из Франции, из Парижа, как трофей – и она, средь прочего, напоминала о том, что он взял Париж. (Тоже приятно!) Его самого учила играть покойная Жозефина – отставленная жена Бонапарта: с ней Александр сблизился в последние месяцы ее жизни, которая так внезапно оборвалась (с тоски, наверное). – Как с ее дочерью Гортен зией (от первого брака), королевой голландской… (Это было, когда сам Наполеон водворился уже на Эльбе: еще до «ста дней» и Ватерлоо!) – Этот чертов Бонапарт умудрился расплодить по всему свету невесть откуда взявшихся королев и королей – и Александр был чуть не единственный в коалиции противников его – кто стоял на том, что надо, елико возможно, оставить все как есть – если это не мешает интересам общим. (Вообще, семья Бонапарта – и все, что связано с ним, – занимало в его жизни непонятное место… Союзники пугались, приближенные морщились. И пытались объяснить его почти физической неприязнью к Бурбонам, которых он, как называли тогда, сам и «привез в обозе править Францией», хотя обоз был не его, – или политическими соображениями. И все правда – и Бурбонов он не терпел, и политических соображений было хоть отбавляй – начиная с Польши, но…)
Впрочем, безик как игра в России не привилась – во всяком случае, ему не докладывали, чтоб в нее играли. Тут предпочитали «пикет». (А он, как самодер жец, все ж интересовался порой – и тем, во что играют в приличных российских домах: он считал, это входит в круг его обязанностей.)
– Марьяж! – сказала тихо жена, глядя в карты. (У нее уже было четыре взятки, и она была вправе объявлять.) Император галантно прибавил на доске еще двадцатку к ее фишам. Куртуазное действо… Марьяж был некозырный: с ее руки, всего – король и дама одной масти. И сидели визави тоже – дама и король одной масти: оба блондины. Игра ничего не значила для обоих – кроме отрешенья от забот, совместного одиночества и параллельного течения мыслей.
К императору покуда карта не шла. Сейчас он взял в талоне – семерку козырь – и, согласно правил, сменил ею открытый на столе валет червей. Пошло в запись – 10 плюс 10. Он был еще без четырех, объявлять не мог, да и нечего: две десятки и мелочь, годится только сбрасывать. Но зато был валет – стоит поберечь для козырной квинты. Игра шла в две колоды…
Императрица Елизавета Алексеевна – некогда баденская принцесса Луиза – не была уже, конечно, той несравненной европейской красавицей, которая некогда, в ранней юности, – сумела покорить весь дворец Екатерины, привычный к красоте – всех безумно волновали ее открытые легкие платья под антик: не облегающие фигуру, но словно наброшенные небрежно; диадемы, венки и простые цветы в волосах – Психея, Психея! На свадьбе так и говорили: – Психея и Амур (Амур был Александр.) Они в самом деле походили на золотую пару. И лишь отец жениха – великий князь Павел – все еще великий князь – стоял, насупившись, и не разделял общих восторгов. Он был явно зол – конечно, как всегда, на мать-императрицу, но распространялось это решительно на всех – в том числе, на них двоих. (Он вообще не хотел приходить на торжество – его уговорили. Он прекрасно понимал, что Екатерина женит внука так рано, чтоб попытаться вырвать трон из-под тощего зада нелюбимого сына.)
Амур и Психея… Сейчас Элиза сидела, чуть откинувшись – слишком прямая и точеная, но с робостью во взоре, как всегда почти в присутст вии мужа. Она за многое могла считать себя виновной перед ним – хотя и не хотела исчислять свои вины. Так сложилось, так сложилось!.. Даже нынче лишь самый пристрастный взгляд мог сыскать в ее пепельных волосах седые прожилки… Александр же, в последние годы, стал полнеть – был в мундире, чуть расстегнутом по-домашнему, и округ известной лысины («плешивый щеголь») в светлых с рыжинкой прядях седина вовсю светилась.
– Вы нынче смотритесь как богиня! – сказал он с прохладной нежностью.
Она улыбнулась улыбкой несчастливой женщины. Она знала, что выглядит неважно (она преувеличивала). Но муж ее был странный человек, особенно с женщинами – (и странности его давно сделались притчей во языцех при всех европейских дворах) – и именно теперь, когда она постарела и подурнела – уделял ей все больше внимания и откровенно переставал замечать других дам – что, на первых порах вызвало чуть не смятенье при дворе: даже старые величавые рогоносцы, владетели породистых жен, что могли вроде наконец, вздохнуть спокойно – волновались: к тому, прежнему Александру они привыкли – а нынешний? (Всегда не знаешь, чего ждать, когда власть меняет привычки!)
– В свете все больше разговоров про…
…сейчас начнет про Фотия! Не надо! Он сам все знает про Фотия!
– … что будто этот монах…
– … занимает все больше места в моей жизни! – договорил он за нее почти весело. И добавил легко: – В нашей жизни, дорогая, в нашей!
– И что Анна Орлова…
– Графиня Орлова! – любезно поправил он, выбирая карты из талона.
Не кто иной, как эта Анна Орлова – и свела его с Фотием.
– Она – из тех самых Орловых?
– Конечно! Не зря ж она мужеподобна! Пошла в своих дядей! – и улыбнулся знаменитой своей очаровательной улыбкой, которую решительно все, кроме нее, его жены, считали лукавой.
– А вашему свету следовало бы больше заниматься собой! А не мной и моей жизнью. И не вашей тоже. (Тон был элегический.) Отмаливать грехи хотя бы. У них, я полагаю – их не меньше, чем у нас с тобой! – «Ты» они говорили друг другу редко – чаще, когда возникала опаска ссоры. Впрочем, сейчас ею и не пахло – промельк досады и только.
…она знала – что он хочет отмолить (и чем дальше – все больше). Проклятый вечер и ночь, когда они вместе ждали исхода заговора против его отца… Это было ужасно – право, ужасно – но в этом, как раз, в своей жизни – он был повинен меньше всего… Император Павел сошел с ума – все знали, – ходили слухи, что он вот-вот завещает престол племяннику из Германии, а сына-наследника заточит в крепость вместе с матерью-императрицей (которая после так безумно рыдала на его похоронах). И Александру ж было твердо обещано, что отца пощадят – только заставят отречься!.. Но потом, потом… все офицеры, бравшие участие в действе – рассказывали, что, когда вошли в спальню Павла – все предстало в ином свете, и… что сами не поняли – как все произошло… Но это она, Элиза, была с мужем – в тот вечер и ночь. И отирала его слезы, и даже отдавала распоряжения за него. Какие он сам в слезах – не в силах был произнесть. Хотя… она как женщина – и это тоже все знали – в ту пору уже не принадлежала ему.
Потом они немного разогрелись игрой, и он уж был при четырех – и мог объявлять и стал зреть впереди некие комбинации…
– Теперь и у меня – марьяж, дорогая! Ба! да еще марьяж!.. – он с детским удовольствием озирал карты, взятые в талоне.
…она помнит, как он впервые поцеловал ее. Пытался. Было страшно и влажно. А она испугалась, что у нее, верно, слишком прохладные губы. И руки – чистый лед: ей было тринадцать! Она после стыдилась себя, что была слишком холодна – и, совсем уж позор – после долго полоскала рот. Она написала тогда матери:
«Боюсь, ему теперь захочется все время целовать меня. Что делать? «Они еще были только помолвлены…
Она прикрыла рот платочком, покашляла. Он вздрогнул. Он часто слышал прежде такой кашель у Софи… своей дочери от Нарышкиной… А теперь Софи нет… Саму Элизу, похоже, ее кашель – не пугал, только смущал. Он недавно говорил о ней с врачами. Ничего хорошего!
…стеснительная недотрога! (теперь она презирала себя). Она понимала, что ничего не могла ему дать тогда – поначалу. Их оженили слишком рано. Ей было четырнадцать, ему – шестнадцать. Нет, сентябрь – шестнадцати еще не было! Двое детей – заключенных против воли в железные колодки царств и царственных интриг. Выдумка бабки Екатерины. Элиза была девчонка: – Ой, больно! Ой, щекотно!.. Не трогай волосы – они искрят! – А он – мальчишка… которому нужна была женщина. Ему не хватало ни сил, ни терпения – раздувать этот тлеющий костер.
– Вам никогда не вспоминается бедная Криденер? – спросила она, помолчав.
– А почему я должен вспоминать ее?.. – но сдержался и кивнул благо желательно: – Она умерла в Кореизе, в Крыму, весной. Мне докладывали…
– … потому что это вы выгнали ее из Петербурга по наущению Аракчеева и вашего отвратительного Фотия! И отказали в аудиенции, даже тайной – и тем сломили ее!.. – но не произнесла – только подумала…
– Ну как? Мне идет? – спросила она и вновь повернулась к зеркалу.
– Очень! – сказал Александр искренне. – Очень!..
– Вот… а вы все считаете… – не договорила.
– … что я старуха! (слышалось и без слов).
Правду ль говорят, что вся французская революция произошла от ненасытности Марии-Антуанетты? Так рушатся царства!..
Она так и стояла, как он застал ее – прижав ладонями бедра, чуть вытянув руки и несколько приподняв платье.
– Иногда знаете, кажется, что не все потеряно… а иногда…
Она улыбнулась – и протянула ему руку. Подумав – протянула обе. Он поцеловал их по очереди – как целовал руки только нравившихся ему женщин. У него чуть кружилась голова.
– Спасибо! – сказала она. – Спасибо!
Он поклонился и вышел, смущенный… точно подглядел нечаянно то, что не следовало видеть. Старушка Ларина? Два брака – и нет счастья! Боже мой – что это такое – счастье?! Наверно – самая мудреная вещь на свете! Или самая трудная…
В зале девчонки насиловали рояль, грохот ворвался в уши. Он рассердился. Не сильно…
«О, Валери! В то время я с гордостью ощущал биение своего сердца… которое умело так любить тебя!»
…книгу будет трудно возвращать – никто ж не поймет, почему – он так испещрил ее подчерками?.. «Хранили многие страницы – Заметы резкие ногтей…» С тех пор, как он стал писать «Онегина», вся его жизнь, как навоз – сделалась удобрением этому роману. Он все готов был отдать ему, отделивши от себя. Такого еще не было! То, что сперва казалось легким изыском… заигрываньем с читателем – чуть не светской болтовней с ним – становилось природой книги. Его самобытие невольно поселилось в романе. Он сам возник где-то – меж Онегиным и Ленским – пора меж волка и собаки… – и, право, не знал, что делать с собой. Всякий персонаж должен куда-то двигаться. От чего к чему? И куда идет он сам?..
«Вся жизнь моя была залогом – Свиданья нашего с тобой, – Я знаю, ты мне послан Богом…» – он знал, что оно уже написано – это письмо.
«– Я не расстаюсь с вами, мне еще столько нужно вам сказать! – Она закрыла за собой дверь, а я упал в кресла, уничтоженный этим звуком: мне показалось, что вселенная рухнула…
Насколько больше я любил бы тебя, Валери!..»[13 - Юлия Крюденер. Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г…. Сер. «Лит. памятники», М., 2000 г.]
Схолия
* Подробное исследование пушкинских помет на экземпляре романа «Валери» Юлии Крюденер принадлежит Л. И. Вольперт[14 - Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М., 1998. С. 77–85.]. Здесь использовано это прочтение. Правда, автор книги «Пушкин в роли Пушкина» считает пометы неким слитным «лирическим письмом», составленным из подчеркнутых мест и обращенным к А. П. Керн. Это кажется сомнительным. Адресат вряд ли назван верно (Это станет ясней, когда у нас здесь появится сама Анна Керн.) Весь контекст отношений с Керн лета 1825-го (начиная с заочного этапа – переписка с Родзянко) – в самом деле, отдает «игрой», «игровым поведением», о котором прекрасно говорит автор книги, что как-то не соотносится с тональностью «нежного романа», каким является «Валери». За этими пометами стоит иная, трагическая история любви. И почти несомненно – это история любви к Е. К. Воронцовой.
** Надо сказать, несмотря на более чем полуторастолетнюю историю изучения «Онегина» и обширнейший корпус черновых набросков к роману – сама история создания его до конца не известна по сей день. Начало, и впрямь, наверно, было несколько поспешным и случайным. («Пишу роман, в котором забалтываюсь донельзя…»). Можно утверждать, что плана, как такового, еще не было – во всяком случае, того, по которому после развился роман. Вряд ли Пушкин даже знал, к примеру, начиная его – что Онегин убьет Ленского в дуэли. «Трагедия победы» – по точному выражению Ю. Лотмана – это придет потом… Нужно было пережить серьезнейшую личную – а потом и общественную драму, чтоб роман стал диктовать автору свои законы…
Вставная глава I
Царям живется на свете не легче, чем их подданным. Император Александр, о котором его тезка в Михайловском все чаще думал в последнее время (это ж он его упек в эту дыру за строчку глупого письма, чем привел в великий страх его отца!) – вряд ли помышлял о нем. У Александра-государя были другие дела и заботы. Примерно, в те же дни, что мы описываем здесь, – в первой половине сентября 1824-го, в Царском – он сидел, уединившись с женой-императрицей, Елизаветой Алексеевной, в одной из комнат, примыкавших непосредственно к кабинету, и предавался карточной игре. – Это сделалось частым, с некоторых пор, послеобеденным их времяпрепровождением. Ломберный столик, богато ин крустированный уральскими самоцветами, разделял играющих, мольберт, придви нутый к столу, напротив, был совсем прост, похож на художнический, только с грифельной доской – на ней отписывались фиши. Государь как-то брезговал писать мелом на сукне пред собой: он был сноб…
Игра называлась – «безик». В России вечно норовят сместить французское ударение с последнего слога: вообще-то, «безик», конечно. Бези?к. Бе?зик. Игру он вывез из Франции, из Парижа, как трофей – и она, средь прочего, напоминала о том, что он взял Париж. (Тоже приятно!) Его самого учила играть покойная Жозефина – отставленная жена Бонапарта: с ней Александр сблизился в последние месяцы ее жизни, которая так внезапно оборвалась (с тоски, наверное). – Как с ее дочерью Гортен зией (от первого брака), королевой голландской… (Это было, когда сам Наполеон водворился уже на Эльбе: еще до «ста дней» и Ватерлоо!) – Этот чертов Бонапарт умудрился расплодить по всему свету невесть откуда взявшихся королев и королей – и Александр был чуть не единственный в коалиции противников его – кто стоял на том, что надо, елико возможно, оставить все как есть – если это не мешает интересам общим. (Вообще, семья Бонапарта – и все, что связано с ним, – занимало в его жизни непонятное место… Союзники пугались, приближенные морщились. И пытались объяснить его почти физической неприязнью к Бурбонам, которых он, как называли тогда, сам и «привез в обозе править Францией», хотя обоз был не его, – или политическими соображениями. И все правда – и Бурбонов он не терпел, и политических соображений было хоть отбавляй – начиная с Польши, но…)
Впрочем, безик как игра в России не привилась – во всяком случае, ему не докладывали, чтоб в нее играли. Тут предпочитали «пикет». (А он, как самодер жец, все ж интересовался порой – и тем, во что играют в приличных российских домах: он считал, это входит в круг его обязанностей.)
– Марьяж! – сказала тихо жена, глядя в карты. (У нее уже было четыре взятки, и она была вправе объявлять.) Император галантно прибавил на доске еще двадцатку к ее фишам. Куртуазное действо… Марьяж был некозырный: с ее руки, всего – король и дама одной масти. И сидели визави тоже – дама и король одной масти: оба блондины. Игра ничего не значила для обоих – кроме отрешенья от забот, совместного одиночества и параллельного течения мыслей.
К императору покуда карта не шла. Сейчас он взял в талоне – семерку козырь – и, согласно правил, сменил ею открытый на столе валет червей. Пошло в запись – 10 плюс 10. Он был еще без четырех, объявлять не мог, да и нечего: две десятки и мелочь, годится только сбрасывать. Но зато был валет – стоит поберечь для козырной квинты. Игра шла в две колоды…
Императрица Елизавета Алексеевна – некогда баденская принцесса Луиза – не была уже, конечно, той несравненной европейской красавицей, которая некогда, в ранней юности, – сумела покорить весь дворец Екатерины, привычный к красоте – всех безумно волновали ее открытые легкие платья под антик: не облегающие фигуру, но словно наброшенные небрежно; диадемы, венки и простые цветы в волосах – Психея, Психея! На свадьбе так и говорили: – Психея и Амур (Амур был Александр.) Они в самом деле походили на золотую пару. И лишь отец жениха – великий князь Павел – все еще великий князь – стоял, насупившись, и не разделял общих восторгов. Он был явно зол – конечно, как всегда, на мать-императрицу, но распространялось это решительно на всех – в том числе, на них двоих. (Он вообще не хотел приходить на торжество – его уговорили. Он прекрасно понимал, что Екатерина женит внука так рано, чтоб попытаться вырвать трон из-под тощего зада нелюбимого сына.)
Амур и Психея… Сейчас Элиза сидела, чуть откинувшись – слишком прямая и точеная, но с робостью во взоре, как всегда почти в присутст вии мужа. Она за многое могла считать себя виновной перед ним – хотя и не хотела исчислять свои вины. Так сложилось, так сложилось!.. Даже нынче лишь самый пристрастный взгляд мог сыскать в ее пепельных волосах седые прожилки… Александр же, в последние годы, стал полнеть – был в мундире, чуть расстегнутом по-домашнему, и округ известной лысины («плешивый щеголь») в светлых с рыжинкой прядях седина вовсю светилась.
– Вы нынче смотритесь как богиня! – сказал он с прохладной нежностью.
Она улыбнулась улыбкой несчастливой женщины. Она знала, что выглядит неважно (она преувеличивала). Но муж ее был странный человек, особенно с женщинами – (и странности его давно сделались притчей во языцех при всех европейских дворах) – и именно теперь, когда она постарела и подурнела – уделял ей все больше внимания и откровенно переставал замечать других дам – что, на первых порах вызвало чуть не смятенье при дворе: даже старые величавые рогоносцы, владетели породистых жен, что могли вроде наконец, вздохнуть спокойно – волновались: к тому, прежнему Александру они привыкли – а нынешний? (Всегда не знаешь, чего ждать, когда власть меняет привычки!)
– В свете все больше разговоров про…
…сейчас начнет про Фотия! Не надо! Он сам все знает про Фотия!
– … что будто этот монах…
– … занимает все больше места в моей жизни! – договорил он за нее почти весело. И добавил легко: – В нашей жизни, дорогая, в нашей!
– И что Анна Орлова…
– Графиня Орлова! – любезно поправил он, выбирая карты из талона.
Не кто иной, как эта Анна Орлова – и свела его с Фотием.
– Она – из тех самых Орловых?
– Конечно! Не зря ж она мужеподобна! Пошла в своих дядей! – и улыбнулся знаменитой своей очаровательной улыбкой, которую решительно все, кроме нее, его жены, считали лукавой.
– А вашему свету следовало бы больше заниматься собой! А не мной и моей жизнью. И не вашей тоже. (Тон был элегический.) Отмаливать грехи хотя бы. У них, я полагаю – их не меньше, чем у нас с тобой! – «Ты» они говорили друг другу редко – чаще, когда возникала опаска ссоры. Впрочем, сейчас ею и не пахло – промельк досады и только.
…она знала – что он хочет отмолить (и чем дальше – все больше). Проклятый вечер и ночь, когда они вместе ждали исхода заговора против его отца… Это было ужасно – право, ужасно – но в этом, как раз, в своей жизни – он был повинен меньше всего… Император Павел сошел с ума – все знали, – ходили слухи, что он вот-вот завещает престол племяннику из Германии, а сына-наследника заточит в крепость вместе с матерью-императрицей (которая после так безумно рыдала на его похоронах). И Александру ж было твердо обещано, что отца пощадят – только заставят отречься!.. Но потом, потом… все офицеры, бравшие участие в действе – рассказывали, что, когда вошли в спальню Павла – все предстало в ином свете, и… что сами не поняли – как все произошло… Но это она, Элиза, была с мужем – в тот вечер и ночь. И отирала его слезы, и даже отдавала распоряжения за него. Какие он сам в слезах – не в силах был произнесть. Хотя… она как женщина – и это тоже все знали – в ту пору уже не принадлежала ему.
Потом они немного разогрелись игрой, и он уж был при четырех – и мог объявлять и стал зреть впереди некие комбинации…
– Теперь и у меня – марьяж, дорогая! Ба! да еще марьяж!.. – он с детским удовольствием озирал карты, взятые в талоне.
…она помнит, как он впервые поцеловал ее. Пытался. Было страшно и влажно. А она испугалась, что у нее, верно, слишком прохладные губы. И руки – чистый лед: ей было тринадцать! Она после стыдилась себя, что была слишком холодна – и, совсем уж позор – после долго полоскала рот. Она написала тогда матери:
«Боюсь, ему теперь захочется все время целовать меня. Что делать? «Они еще были только помолвлены…
Она прикрыла рот платочком, покашляла. Он вздрогнул. Он часто слышал прежде такой кашель у Софи… своей дочери от Нарышкиной… А теперь Софи нет… Саму Элизу, похоже, ее кашель – не пугал, только смущал. Он недавно говорил о ней с врачами. Ничего хорошего!
…стеснительная недотрога! (теперь она презирала себя). Она понимала, что ничего не могла ему дать тогда – поначалу. Их оженили слишком рано. Ей было четырнадцать, ему – шестнадцать. Нет, сентябрь – шестнадцати еще не было! Двое детей – заключенных против воли в железные колодки царств и царственных интриг. Выдумка бабки Екатерины. Элиза была девчонка: – Ой, больно! Ой, щекотно!.. Не трогай волосы – они искрят! – А он – мальчишка… которому нужна была женщина. Ему не хватало ни сил, ни терпения – раздувать этот тлеющий костер.
– Вам никогда не вспоминается бедная Криденер? – спросила она, помолчав.
– А почему я должен вспоминать ее?.. – но сдержался и кивнул благо желательно: – Она умерла в Кореизе, в Крыму, весной. Мне докладывали…
– … потому что это вы выгнали ее из Петербурга по наущению Аракчеева и вашего отвратительного Фотия! И отказали в аудиенции, даже тайной – и тем сломили ее!.. – но не произнесла – только подумала…