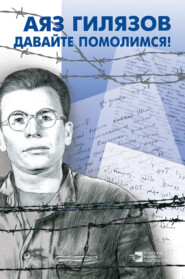По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
При свете зарниц (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дядя Василь, Шарип, сват Карам…
В Дубовом проулке к народу присоединились Сания и Хаерлебанат. Они сидели в старенькой телеге, застеленной соломой, запряжённой тощим мерином. Увидев Исхака, Сания соскочила с телеги. Они пошли рядом по обочине.
– Уезжаете?
– Уезжаем…
Многие парни хорошо выпили перед отъездом. Они стараются казаться весёлыми и бесшабашными, свистят, щёлкают кнутами, гоняются, объезжая впереди едущих прямо по ржи. Рыдает гармонь.
Уезжаю, уезжаю,
Уезжаю, остаётесь…
Вот, оказывается, какая это жестокая песня!.. Слёзы текут. А ведь каждый вечер на гуляньях пели её раньше, ходили с этой песней по улицам в обнимку, горланили, стараясь перекричать друг друга.
Уезжаю, уезжаю,
Уезжаю, остаётесь…
Перехватывает горло, на глаза навёртываются слёзы. Тянется позади, по обеим сторонам дороги, помятая колёсами рожь. Помяты, сломаны подошвами новых лаптей и старых сапог стебли жёлтого горицвета. Сломанное счастье, разбитые надежды, порушенная жизнь… И неизвестность впереди.
Кто вернётся, кто встретить выйдет?…
Поля, поля, прощайте, уходят хозяева ваши, от щедрого сердца, большими надеждами, поливавшие из года в год вас своим потом. Они уходят на другие поля, поливать их кровью своей…
– Хоть бы не пели, что ли… – сказала Сания дрогнувшим голосом. – И так тяжко…
– Уезжают на фронт, как не петь? – У Исхака в горле тоже всё время стояли слёзы.
– Неужто нельзя тихо уехать?
Тихо живи, тихо люби, тихо уезжай навстречу смерти своей? Разве это для настоящих мужчин такая доля, Сания? Исхак подумал так, но произнести вслух не было слов. Он вздохнул.
– Пускай поют…
– Очень тяжело… – Сания вдруг заплакала.
– Я скучать по тебе буду, Сания… – сказал Исхак, беря девушку за локоть. – Не плачь, не надо… Может, всё ещё будет хорошо.
– Может… – Сания со всхлипом вдохнула воздух, улыбнулась. – Я тоже буду скучать.
– Останься! – попросил вдруг Исхак. – Не уезжай, страшно мне что-то…
– Нет… Я – тут, мама – в дороге, папа – там… Трое в трёх местах… Мама говорит, заберём отца, сюда вернёмся и из деревни никуда не уедем!.. Слышишь, Исхак, никогда больше не уедем.
Исхак остановился.
– Никогда не уедете?
– Никогда… Я бы не хотела…
– Я бы тоже тогда не уехал. Кончил бы институт сельскохозяйственный и вернулся в деревню…
Сания улыбнулась грустно, кивнула. Когда доехали до большой дороги, многие провожающие начали возвращаться.
– Сколько не иди, всё равно с собой не заберёшь. Пусть Аллах сохранит вас и даст свидеться скоро, живыми-здоровыми!
Однако те, кто не в силах был ещё расстаться, решили сесть на подводы и ехать вместе с солдатами до пристани. Исхак под шумок тоже пристроился на подводе Сании, но его прогнал Салих Гильми.
– А ты что лишним грузом тут мотаешься? У тебя же никто не уезжает?
– Я возчиком еду, – огрызнулся Исхак. – Подводу обратно пригоню.
– Ничего, без тебя обойдутся! – Салих за руку сдёрнул его с телеги, помог устроиться на его месте какой-то тётке.
Хаерлебанат тоже сказала:
– Возвращайся, сынок. Мы ведь не на войну уезжаем. Глядишь, как солнышко и обернёмся…
Сания попыталась улыбнуться, но губы у неё задрожали, она кивнула ему и отвернулась. Когда подвода отъехала довольно далеко, Сания вынула платок и замахала им. Исхак неподвижно стоял посреди дороги, пока белоснежная трепещущая точка эта не скрылась за бугром. Тогда он круто повернулся и помчался к деревне. Бежал так быстро, что заболело под ложечкой.
Медленно брёл он пустынными улицами деревни; ветер гнал вдоль плетней гусиные и куриные перья, всякий мусор. Во дворах ревел голодный скот: многие, не надеясь вернуться сегодня, скотину не выгоняли. Домой Исхаку идти не хотелось. Он поднялся на Огурцовую гору, забрался в кустарник Ахми, сел на заветном месте. На сердце было тоскливо, безысходно, и мучила обида.
«Некого провожать?… Если бы жив был отец, он бы тебе дал, поганый Салих! Одной рукой телегу мог поднять… Батыр был. На фронт бы пошёл фашистов бить… Ещё смеет тявкать на меня, подлая лиса! Сам-то остаётся небось, хитрый…»
Домой Исхак пришёл поздно вечером. Махибэдэр, беспокоясь, ждала его.
– Долго как, сынок. До самых Челнов, наверное, провожал?
– Нет, мама.
– Тогда поешь и ложись. Завтра рано в колхоз пойдём. Бригадир раза три заходил, говорит, живой души мужской в Куктау не осталось. Вот как… Старухи, женщины, дети – вся опора колхозу.
Исхак лёг в избе, но сна не было. Под окнами прошли девушки, запели негромко печальную песню, похоже – заплакали в голос. Как не плакать – парней, любимых на фронт проводили… А он, Исхак, – любимую девушку. Он один в деревне такой. И посочувствовать некому, поговорить не с кем…
Вдруг он поднял голову, услышав незнакомые звуки. Это мать расстелила чистое полотенце на кухонном сакэ и творит намаз. «Боже, сохрани мой народ… Развей врагов… Боже, помоги мужчинам нашей деревни вернуться домой живыми. Не отдай нашу землю злым супостатам!»
Исхак уткнулся в подушку, из глаз брызнули слёзы.
В деревне всю ночь шумели, ходили, слышалось ржание лошадей и скрип тележных колёс: возвращались из Челнов подводы. Двери магазина не закрывались. Перед самой зарёй в Нижнем конце деревни прозвучал выстрел: это застрелился, взяв охотничье отцовское ружьё, хромой Нурутдин.
Исхаку нравился этот тихий парень, ходивший зимой в белом заячьем малахае. В школе он держался всегда в одиночку, стыдясь своей хромоты, во время перерывов стоял, подперев плечом косяк двери, смотрел большими печальными глазами, как другие носятся по двору.
А теперь вот, бедняга, не смог вынести, что сверстники его уехали на фронт, он же остался… Первая жертва войны. Первая, но не последняя.
6
Сестёр Исхака послали на трудовой фронт, в марийские леса, на лесоповал, мать работала на овечьей ферме, пропадала там день и ночь, Исхак работал возчиком, тоже иногда сутками не возвращался домой. Всем приходилось туго.
Он вырвал из старого учебника географии карту и прикрепил к стене над своей постелью. Взятые немцами города он отмечал чёрными стрелками. Фронт стремительно катился по земле России. Исхак со сжимающимся в тоскливом предчувствии сердцем следил, как катится война к тому городишку, где жила Сания. Когда же обведённая красным карандашом точка осталась далеко под немцами, Исхак сорвал карту со стены и сунул на дно сундука.
В Дубовом проулке к народу присоединились Сания и Хаерлебанат. Они сидели в старенькой телеге, застеленной соломой, запряжённой тощим мерином. Увидев Исхака, Сания соскочила с телеги. Они пошли рядом по обочине.
– Уезжаете?
– Уезжаем…
Многие парни хорошо выпили перед отъездом. Они стараются казаться весёлыми и бесшабашными, свистят, щёлкают кнутами, гоняются, объезжая впереди едущих прямо по ржи. Рыдает гармонь.
Уезжаю, уезжаю,
Уезжаю, остаётесь…
Вот, оказывается, какая это жестокая песня!.. Слёзы текут. А ведь каждый вечер на гуляньях пели её раньше, ходили с этой песней по улицам в обнимку, горланили, стараясь перекричать друг друга.
Уезжаю, уезжаю,
Уезжаю, остаётесь…
Перехватывает горло, на глаза навёртываются слёзы. Тянется позади, по обеим сторонам дороги, помятая колёсами рожь. Помяты, сломаны подошвами новых лаптей и старых сапог стебли жёлтого горицвета. Сломанное счастье, разбитые надежды, порушенная жизнь… И неизвестность впереди.
Кто вернётся, кто встретить выйдет?…
Поля, поля, прощайте, уходят хозяева ваши, от щедрого сердца, большими надеждами, поливавшие из года в год вас своим потом. Они уходят на другие поля, поливать их кровью своей…
– Хоть бы не пели, что ли… – сказала Сания дрогнувшим голосом. – И так тяжко…
– Уезжают на фронт, как не петь? – У Исхака в горле тоже всё время стояли слёзы.
– Неужто нельзя тихо уехать?
Тихо живи, тихо люби, тихо уезжай навстречу смерти своей? Разве это для настоящих мужчин такая доля, Сания? Исхак подумал так, но произнести вслух не было слов. Он вздохнул.
– Пускай поют…
– Очень тяжело… – Сания вдруг заплакала.
– Я скучать по тебе буду, Сания… – сказал Исхак, беря девушку за локоть. – Не плачь, не надо… Может, всё ещё будет хорошо.
– Может… – Сания со всхлипом вдохнула воздух, улыбнулась. – Я тоже буду скучать.
– Останься! – попросил вдруг Исхак. – Не уезжай, страшно мне что-то…
– Нет… Я – тут, мама – в дороге, папа – там… Трое в трёх местах… Мама говорит, заберём отца, сюда вернёмся и из деревни никуда не уедем!.. Слышишь, Исхак, никогда больше не уедем.
Исхак остановился.
– Никогда не уедете?
– Никогда… Я бы не хотела…
– Я бы тоже тогда не уехал. Кончил бы институт сельскохозяйственный и вернулся в деревню…
Сания улыбнулась грустно, кивнула. Когда доехали до большой дороги, многие провожающие начали возвращаться.
– Сколько не иди, всё равно с собой не заберёшь. Пусть Аллах сохранит вас и даст свидеться скоро, живыми-здоровыми!
Однако те, кто не в силах был ещё расстаться, решили сесть на подводы и ехать вместе с солдатами до пристани. Исхак под шумок тоже пристроился на подводе Сании, но его прогнал Салих Гильми.
– А ты что лишним грузом тут мотаешься? У тебя же никто не уезжает?
– Я возчиком еду, – огрызнулся Исхак. – Подводу обратно пригоню.
– Ничего, без тебя обойдутся! – Салих за руку сдёрнул его с телеги, помог устроиться на его месте какой-то тётке.
Хаерлебанат тоже сказала:
– Возвращайся, сынок. Мы ведь не на войну уезжаем. Глядишь, как солнышко и обернёмся…
Сания попыталась улыбнуться, но губы у неё задрожали, она кивнула ему и отвернулась. Когда подвода отъехала довольно далеко, Сания вынула платок и замахала им. Исхак неподвижно стоял посреди дороги, пока белоснежная трепещущая точка эта не скрылась за бугром. Тогда он круто повернулся и помчался к деревне. Бежал так быстро, что заболело под ложечкой.
Медленно брёл он пустынными улицами деревни; ветер гнал вдоль плетней гусиные и куриные перья, всякий мусор. Во дворах ревел голодный скот: многие, не надеясь вернуться сегодня, скотину не выгоняли. Домой Исхаку идти не хотелось. Он поднялся на Огурцовую гору, забрался в кустарник Ахми, сел на заветном месте. На сердце было тоскливо, безысходно, и мучила обида.
«Некого провожать?… Если бы жив был отец, он бы тебе дал, поганый Салих! Одной рукой телегу мог поднять… Батыр был. На фронт бы пошёл фашистов бить… Ещё смеет тявкать на меня, подлая лиса! Сам-то остаётся небось, хитрый…»
Домой Исхак пришёл поздно вечером. Махибэдэр, беспокоясь, ждала его.
– Долго как, сынок. До самых Челнов, наверное, провожал?
– Нет, мама.
– Тогда поешь и ложись. Завтра рано в колхоз пойдём. Бригадир раза три заходил, говорит, живой души мужской в Куктау не осталось. Вот как… Старухи, женщины, дети – вся опора колхозу.
Исхак лёг в избе, но сна не было. Под окнами прошли девушки, запели негромко печальную песню, похоже – заплакали в голос. Как не плакать – парней, любимых на фронт проводили… А он, Исхак, – любимую девушку. Он один в деревне такой. И посочувствовать некому, поговорить не с кем…
Вдруг он поднял голову, услышав незнакомые звуки. Это мать расстелила чистое полотенце на кухонном сакэ и творит намаз. «Боже, сохрани мой народ… Развей врагов… Боже, помоги мужчинам нашей деревни вернуться домой живыми. Не отдай нашу землю злым супостатам!»
Исхак уткнулся в подушку, из глаз брызнули слёзы.
В деревне всю ночь шумели, ходили, слышалось ржание лошадей и скрип тележных колёс: возвращались из Челнов подводы. Двери магазина не закрывались. Перед самой зарёй в Нижнем конце деревни прозвучал выстрел: это застрелился, взяв охотничье отцовское ружьё, хромой Нурутдин.
Исхаку нравился этот тихий парень, ходивший зимой в белом заячьем малахае. В школе он держался всегда в одиночку, стыдясь своей хромоты, во время перерывов стоял, подперев плечом косяк двери, смотрел большими печальными глазами, как другие носятся по двору.
А теперь вот, бедняга, не смог вынести, что сверстники его уехали на фронт, он же остался… Первая жертва войны. Первая, но не последняя.
6
Сестёр Исхака послали на трудовой фронт, в марийские леса, на лесоповал, мать работала на овечьей ферме, пропадала там день и ночь, Исхак работал возчиком, тоже иногда сутками не возвращался домой. Всем приходилось туго.
Он вырвал из старого учебника географии карту и прикрепил к стене над своей постелью. Взятые немцами города он отмечал чёрными стрелками. Фронт стремительно катился по земле России. Исхак со сжимающимся в тоскливом предчувствии сердцем следил, как катится война к тому городишку, где жила Сания. Когда же обведённая красным карандашом точка осталась далеко под немцами, Исхак сорвал карту со стены и сунул на дно сундука.