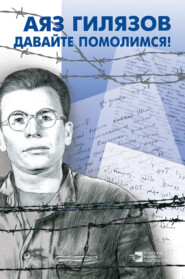По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
При свете зарниц (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну что ж? Муж есть муж, не прохожий, не откажешься, не закроешь перед ним дверь. Да и любила его всё ещё Хаерлебанат, а больше жалела. Стали жить вместе. Однако если раньше в их доме не было избытка, то теперь поселилась самая настоящая нужда. Первые морщины тронули красивое лицо Хаерлебанат, первая седина засеребрилась в её пышных чёрных волосах.
Приезжали несколько раз за ней братья, звали вернуться в родной дом: никто из них не попрекнёт куском любимую сестрёнку. Рады будут. Но Хаерлебанат не согласилась: выданная дочь – отрезанный ломоть. Да и Нурулла – куда он без неё?
Правда, Нурулла приспособился делать кое-какие работы по дому, несмотря на своё увечье: нянчил дочь, кормил цыплят и утят, рубил дрова, топил печь. Конечно, тоже помощь, но слишком малая, чтобы вытащить домашнюю телегу из колеи нужды. Хаерлебанат билась как рыба об лёд, работала от темна до темна. Голодными они не были, но и хлеба досыта тоже не едали.
Скоро, однако, в деревне начали создавать колхоз, Нурулла пришёл записываться одним из первых.
– Я знал, что большевики найдут способ, как победить нужду!..
Однако некоторые члены колхоза воспротивились.
– Нечего калек собирать! Мы будем работать, а они хлеб есть?
Среди кричавших был, конечно, и Салих Гильми.
Но Хаерлебанат не дала мужа в обиду. Прибежала в правление, крича, что не по-человечески оставить калеку за бортом, что вдвоём они себя обработают, что Нурулла на этой земле родился и любит её… После долгих пререканий их всё же приняли в колхоз.
Днём Нурулла возился с дочкой и домашними делами, пока Хаерлебанат была на колхозных работах, а вечером, привязав деревяшку к обёрнутой ватой и тряпками культе, шёл сторожить колхозные амбары. Шёл и пел песню:
Скрип-скрип, берёзовая нога!
И ты была когда-то стройным деревцем,
А теперь носишь горемычного калеку!..
Амбары стояли довольно далеко от деревни – бывшие купеческие лабазы, в них теперь хранили фураж и семена. Ночью Нурулла чувствовал себя хозяином, и это немного мирило его со своей участью. Но, видно, было на роду Нурулле написано оставаться бедолагой.
Однажды тёмной осенней ночью Нурулла, как всегда, опираясь на здоровенную дубинку, обходил лабазы, мурлыча под нос песню.
У дальнего амбара остановилась подвода, Нурулла сначала не обратил на неё внимания: рядом проходила дорога и подводы часто проезжали по ней. Но эта подвода подозрительно долго оставалась на месте, слышались приглушённые голоса и позвякивание железа. Нурулла похромал к амбару. Из взломанных дверей какие-то люди с закутанными лицами выносили мешки:
– Злодеи! Вы что? – закричал Нурулла. – Перестаньте, стрелять буду…
Но его опередили:
– Подавишься, не ори… – негромко произнёс чей-то знакомый голос, затем раздался выстрел.
Утром колхозники нашли Нуруллу лежащим без сознания возле амбаров, а на складе недосчитались пяти мешков муки. Следствие ничего не дало. Грабителей так и не поймали. Правда, Нурулле казалось, что голос стрелявшего человека был похож на голос Салиха Гильми, но уверен он не был, потому на суде промолчал, чтобы зря не оговорить односельчанина. Надеялся, когда выздоровеет окончательно, проверить самолично, последить за Салихом. Но вышел он из больницы кривым: глаз спасти не удалось.
После этого увечья Нурулла совсем пал духом. Хаерлебанат боялась, как бы не сделал чего с собой. Он перестал показываться на людях, сидел большей частью дома, не снимая и в избе малахая, ухом которого он прикрывал кривой глаз.
– Нет моих сил больше, мать… – взмолился как-то он. – Не могу я так сиднем сидеть, работать хочу.
– Работаешь же по дому, – стала утешать его Хаерлебанат. – Где же найти теперь для тебя, бедолаги, подходящую работу? Да ты не казнись! Зря ведь хлеб не ешь, стараешься…
– Какое уж тут старанье, – махнул горько Нурулла здоровой рукой. – Разве это работа! Я по настоящей работе тоскую, разве ты не видишь? Давай уедем. Не может быть, чтобы в большом мире для меня хоть какого-то малого, но настоящего дела не нашлось!
– Куда ж уедем-то мы? – засмеялась горько Хаерлебанат, обняв тощую шею мужа. – Горе ты моё, кому мы нужны с малым ребёнком, раздетые-разутые, в чужих людях?
– Уедем куда глаза глядят. Говорят, в миру птица не погибнет.
– Разве мы птицы? – возражала Хаерлебанат, но ей была понятна тоска мужа. Конечно, тяжело ему сидеть без дела, всеми презираемому. И ей, если говорить правду, тоже нелегко одной семью тащить. Одного Нуруллу на сторону она отпускать не хотела, куда ему, калеке, странствовать по свету!.. Да и самой ей тоже трудно было представить, что останется снова в пустом доме с дочкой. Так всё же мужским духом пахнет…
Долгими осенними вечерами под соломенной крышей домика в Дубовом проулке разговоры об отъезде участились. В непогоду, в тёмные дождливые ночи, когда по стёклам избушки хлестал, словно желая их выбить, ветер с дождём, Нурулла тосковал сильнее.
– Если бы хоть какое-то дело, эти воробьиные ночи не казались бы такими долгими и страшными… Сколько можно жить, проклиная тьму и непогоду?
И Хаерлебанат решилась. Собрала немудрящий скарб, забила досками окна, запрягла лошадку в телегу и, повесив на двери ржавый замок, размером с небольшую черепаху, занесла ключ соседям.
– Присмотрите за домом, – попросила она.
И они тронулись в путь.
Нурулла полулежал с мрачным лицом, откинувшись на здоровый локоть, свесив ногу с грядки телеги, другая нога, словно пушечное дуло, нацелилась деревяшкой в небо. Хаерлебанат, ширококостная, с полными руками и высокой грудью, обтянутой стёганым жакетом и фартуком с вышивкой, сидела рядом с возчиком. По щекам её текли слёзы.
Только Сания радовалась путешествию. Всё было ново для неё – телега, полная вкусно пахнущей соломы, тонконогий жеребёнок, семенящий позади и вдруг, взбрыкнув, убегающий далеко в сторону. Мокрые чёрные поля вокруг.
Хаерлебанат, беспокоясь, что жеребёнок заблудится, принималась звать его:
– Бах-бах-бах!
Возчик тоже кликал озорника сердитым голосом, даже Нурулла присоединялся ко всем – длинноногий и ухом не вёл, взбрыкивая, летал по пашне. И только когда Сания звала его своим звонким голоском, жеребёнок подбегал, тыкался под брюхо матери, встряхивал пушистым, как у лисы, тёмно-рыжим хвостиком, потом подходил к телеге, тянулся мордочкой к Сание, приглашая её поиграть…
Так они и уехали в никуда. Где скитались, как искали себе кров и хлеб – однодеревенцы о том не ведали. Весной, однако, от Хаерлебанат пришло письмо. Сначала перечислялись поклоны всем соседям, потом сообщения, что устроились они на одной железнодорожной станции в Белоруссии – Нурулла сторожем, Хаерлебанат работает на дороге, Сания учится. Сыты, обуты, живут в казённой квартире. В конце письма шла просьба присмотреть за домом и за садом, чтобы скотина не потравила, ребятишки деревья не поломали и чтобы постройки и огорожу на топливо не растаскали. По этой приписке соседи поняли, что Хаерлебанат по родному гнезду скучает и домой вернуться рано или поздно надеется. Потрясло всех также сообщение, что устроились они в какой-то неведомо далёкой Белоруссии.
– Ай-яй! – качали головами люди. – Это же надо, в какую их даль, сердечных, занесло!.. Это же, говорят, аж возле самой заграницы, та Белоруссия! Самый край земли…
Но, однако, наверное, тот край земли не был уж так недосягаем. Следующим летом Хаерлебанат с Саниёй приехали в деревню. Отодрали доски с окон, повыдергали лопухи и лебеду, закрывшие крыльцо, стали жить.
– Соскучилась, лето здесь поживём, – объяснила Хаерлебанат соседям. – В чужом краю неплохо, но дома, конечно, лучше…
Тогда, в те давние, как сейчас кажется, времена Исхак ещё не был знаком ни с Саниёй, ни с Хаерлебанат. Нуруллу он тоже не видел: жили они в разных концах большой деревни. Однажды только забрёл он, отыскивая пропавшую овцу, в Дубовый проулок и спрятался от разошедшегося дождя под навесом заколоченного крыльца. Из-под лопухов прямо на его босые ноги выпрыгнула лягушка. Исхак вздрогнул. Зловещим показался ему этот заколоченный, почерневший и покосившийся, словно бы умерший, дом. Не стал он пережидать дождь, выбрался за ограду и припустился проулком к себе…
Познакомились они позднее и при довольно забавных обстоятельствах.
Давно, в ту пору, когда и Огурцова гора не была такой лысой, а росла на ней редкая дубовая рощица, имелась в Куктау своя водяная мельница, а при ней запруда. В какое-то дождливое лето, после особенно сильного дождя, запруду прорвало. Починить, конечно, не дошли руки, и весной паводок унёс остатки запруды вместе с мельничными колёсами.
Сначала это никого не обеспокоило, но когда кончилась мука в ларях, жители Куктау стали чесать в затылках. Раньше хоть пуд, хоть полпуда зерна – мельница своя, поехал и смолол. А теперь надо просить подводу, ехать в соседнюю деревню, стоять в очереди, да ещё упрашивать, чтобы твоё зерно взяли. Но хотя и колхоз, и колхозники испытывали большие неудобства, восстановить мельницу так руки и не дошли. Постепенно в ближних деревнях водяные и ветряные мельницы и крупорушки тоже пришли в упадок, развалились. «Что водяная мельница – пережиток старых времён! Паровых настроим!» – говорили руководители, но пока разговорами дело и ограничивалось. Разговоры разговорами, а возить зерно теперь жителям Куктау приходилось аж в самый Балтамак. Большая там у них вода и мельница с четырьмя жерновами.
Время прошло – привыкли, словно так и должно было быть, только ребятишки и молодёжь летом страдали без запруды. От горячего степного ветра в Куктау негде укрыться: ни лесов, ни садов, ни воды хорошей нет. Мальчишки победовали-победовали и решили сами перепрудить мелководную речушку, протекавшую под Огурцовой горой.
Сначала этим занялась самая мелюзга. Выкопали два бревна, оставшиеся на месте старой мельницы, положили их поперёк речушки, подпёрли ивовыми кольями. Нарезали немного дёрна, прибавили к нему навоз и мусор с ближних переулков, получилась-таки запруда, вода начала подниматься. Едва поднялась до колена, полезли купаться – ныряли и плавали, вспахивая носами недалёкое дно запруды. На другой день, прослышав о запруде, на берегу собрались парни постарше. Понаблюдали за малышнёй, плещущейся в чёрной, как дёготь, взбаламученной воде, повыгоняли всех. Но вода не оседала, не очищалась.
Тогда пришлось и подросткам засучить рукава. Кто смог, притащили из дому несколько крепких дубовых кольев, спилили в кустарнике Ахми два старых вяза, навозили на ручной тележке камней с Огурцовой горы. Работа шла чуть ли не неделю, присоединились и совсем взрослые парни, привезли ещё навозу на подводах, утащили несколько столбов, которые связисты беспечно оставили за деревней, когда проводили телефон в Алмалы.
Запруда вышла на славу, вода поднялась аж до Дубового проулка.
Исхак тоже с увлечением включился в строительство. Бежал туда спозаранку, пропадал дотемна, опаздывал встречать стадо, выслушивал за это брань сестёр и матери, но оторвать его от увлекательного дела было невозможно. Вместе с другими подростками таскал землю на носилках, прыгая, трамбовал навоз и мусор в плотине.
Работа на запруде примирила враждовавших между собой мальчишек Верхнего и Нижнего конца. Трудились вместе, дружно, не считаясь с тяжестью выполняемой работы.
Приезжали несколько раз за ней братья, звали вернуться в родной дом: никто из них не попрекнёт куском любимую сестрёнку. Рады будут. Но Хаерлебанат не согласилась: выданная дочь – отрезанный ломоть. Да и Нурулла – куда он без неё?
Правда, Нурулла приспособился делать кое-какие работы по дому, несмотря на своё увечье: нянчил дочь, кормил цыплят и утят, рубил дрова, топил печь. Конечно, тоже помощь, но слишком малая, чтобы вытащить домашнюю телегу из колеи нужды. Хаерлебанат билась как рыба об лёд, работала от темна до темна. Голодными они не были, но и хлеба досыта тоже не едали.
Скоро, однако, в деревне начали создавать колхоз, Нурулла пришёл записываться одним из первых.
– Я знал, что большевики найдут способ, как победить нужду!..
Однако некоторые члены колхоза воспротивились.
– Нечего калек собирать! Мы будем работать, а они хлеб есть?
Среди кричавших был, конечно, и Салих Гильми.
Но Хаерлебанат не дала мужа в обиду. Прибежала в правление, крича, что не по-человечески оставить калеку за бортом, что вдвоём они себя обработают, что Нурулла на этой земле родился и любит её… После долгих пререканий их всё же приняли в колхоз.
Днём Нурулла возился с дочкой и домашними делами, пока Хаерлебанат была на колхозных работах, а вечером, привязав деревяшку к обёрнутой ватой и тряпками культе, шёл сторожить колхозные амбары. Шёл и пел песню:
Скрип-скрип, берёзовая нога!
И ты была когда-то стройным деревцем,
А теперь носишь горемычного калеку!..
Амбары стояли довольно далеко от деревни – бывшие купеческие лабазы, в них теперь хранили фураж и семена. Ночью Нурулла чувствовал себя хозяином, и это немного мирило его со своей участью. Но, видно, было на роду Нурулле написано оставаться бедолагой.
Однажды тёмной осенней ночью Нурулла, как всегда, опираясь на здоровенную дубинку, обходил лабазы, мурлыча под нос песню.
У дальнего амбара остановилась подвода, Нурулла сначала не обратил на неё внимания: рядом проходила дорога и подводы часто проезжали по ней. Но эта подвода подозрительно долго оставалась на месте, слышались приглушённые голоса и позвякивание железа. Нурулла похромал к амбару. Из взломанных дверей какие-то люди с закутанными лицами выносили мешки:
– Злодеи! Вы что? – закричал Нурулла. – Перестаньте, стрелять буду…
Но его опередили:
– Подавишься, не ори… – негромко произнёс чей-то знакомый голос, затем раздался выстрел.
Утром колхозники нашли Нуруллу лежащим без сознания возле амбаров, а на складе недосчитались пяти мешков муки. Следствие ничего не дало. Грабителей так и не поймали. Правда, Нурулле казалось, что голос стрелявшего человека был похож на голос Салиха Гильми, но уверен он не был, потому на суде промолчал, чтобы зря не оговорить односельчанина. Надеялся, когда выздоровеет окончательно, проверить самолично, последить за Салихом. Но вышел он из больницы кривым: глаз спасти не удалось.
После этого увечья Нурулла совсем пал духом. Хаерлебанат боялась, как бы не сделал чего с собой. Он перестал показываться на людях, сидел большей частью дома, не снимая и в избе малахая, ухом которого он прикрывал кривой глаз.
– Нет моих сил больше, мать… – взмолился как-то он. – Не могу я так сиднем сидеть, работать хочу.
– Работаешь же по дому, – стала утешать его Хаерлебанат. – Где же найти теперь для тебя, бедолаги, подходящую работу? Да ты не казнись! Зря ведь хлеб не ешь, стараешься…
– Какое уж тут старанье, – махнул горько Нурулла здоровой рукой. – Разве это работа! Я по настоящей работе тоскую, разве ты не видишь? Давай уедем. Не может быть, чтобы в большом мире для меня хоть какого-то малого, но настоящего дела не нашлось!
– Куда ж уедем-то мы? – засмеялась горько Хаерлебанат, обняв тощую шею мужа. – Горе ты моё, кому мы нужны с малым ребёнком, раздетые-разутые, в чужих людях?
– Уедем куда глаза глядят. Говорят, в миру птица не погибнет.
– Разве мы птицы? – возражала Хаерлебанат, но ей была понятна тоска мужа. Конечно, тяжело ему сидеть без дела, всеми презираемому. И ей, если говорить правду, тоже нелегко одной семью тащить. Одного Нуруллу на сторону она отпускать не хотела, куда ему, калеке, странствовать по свету!.. Да и самой ей тоже трудно было представить, что останется снова в пустом доме с дочкой. Так всё же мужским духом пахнет…
Долгими осенними вечерами под соломенной крышей домика в Дубовом проулке разговоры об отъезде участились. В непогоду, в тёмные дождливые ночи, когда по стёклам избушки хлестал, словно желая их выбить, ветер с дождём, Нурулла тосковал сильнее.
– Если бы хоть какое-то дело, эти воробьиные ночи не казались бы такими долгими и страшными… Сколько можно жить, проклиная тьму и непогоду?
И Хаерлебанат решилась. Собрала немудрящий скарб, забила досками окна, запрягла лошадку в телегу и, повесив на двери ржавый замок, размером с небольшую черепаху, занесла ключ соседям.
– Присмотрите за домом, – попросила она.
И они тронулись в путь.
Нурулла полулежал с мрачным лицом, откинувшись на здоровый локоть, свесив ногу с грядки телеги, другая нога, словно пушечное дуло, нацелилась деревяшкой в небо. Хаерлебанат, ширококостная, с полными руками и высокой грудью, обтянутой стёганым жакетом и фартуком с вышивкой, сидела рядом с возчиком. По щекам её текли слёзы.
Только Сания радовалась путешествию. Всё было ново для неё – телега, полная вкусно пахнущей соломы, тонконогий жеребёнок, семенящий позади и вдруг, взбрыкнув, убегающий далеко в сторону. Мокрые чёрные поля вокруг.
Хаерлебанат, беспокоясь, что жеребёнок заблудится, принималась звать его:
– Бах-бах-бах!
Возчик тоже кликал озорника сердитым голосом, даже Нурулла присоединялся ко всем – длинноногий и ухом не вёл, взбрыкивая, летал по пашне. И только когда Сания звала его своим звонким голоском, жеребёнок подбегал, тыкался под брюхо матери, встряхивал пушистым, как у лисы, тёмно-рыжим хвостиком, потом подходил к телеге, тянулся мордочкой к Сание, приглашая её поиграть…
Так они и уехали в никуда. Где скитались, как искали себе кров и хлеб – однодеревенцы о том не ведали. Весной, однако, от Хаерлебанат пришло письмо. Сначала перечислялись поклоны всем соседям, потом сообщения, что устроились они на одной железнодорожной станции в Белоруссии – Нурулла сторожем, Хаерлебанат работает на дороге, Сания учится. Сыты, обуты, живут в казённой квартире. В конце письма шла просьба присмотреть за домом и за садом, чтобы скотина не потравила, ребятишки деревья не поломали и чтобы постройки и огорожу на топливо не растаскали. По этой приписке соседи поняли, что Хаерлебанат по родному гнезду скучает и домой вернуться рано или поздно надеется. Потрясло всех также сообщение, что устроились они в какой-то неведомо далёкой Белоруссии.
– Ай-яй! – качали головами люди. – Это же надо, в какую их даль, сердечных, занесло!.. Это же, говорят, аж возле самой заграницы, та Белоруссия! Самый край земли…
Но, однако, наверное, тот край земли не был уж так недосягаем. Следующим летом Хаерлебанат с Саниёй приехали в деревню. Отодрали доски с окон, повыдергали лопухи и лебеду, закрывшие крыльцо, стали жить.
– Соскучилась, лето здесь поживём, – объяснила Хаерлебанат соседям. – В чужом краю неплохо, но дома, конечно, лучше…
Тогда, в те давние, как сейчас кажется, времена Исхак ещё не был знаком ни с Саниёй, ни с Хаерлебанат. Нуруллу он тоже не видел: жили они в разных концах большой деревни. Однажды только забрёл он, отыскивая пропавшую овцу, в Дубовый проулок и спрятался от разошедшегося дождя под навесом заколоченного крыльца. Из-под лопухов прямо на его босые ноги выпрыгнула лягушка. Исхак вздрогнул. Зловещим показался ему этот заколоченный, почерневший и покосившийся, словно бы умерший, дом. Не стал он пережидать дождь, выбрался за ограду и припустился проулком к себе…
Познакомились они позднее и при довольно забавных обстоятельствах.
Давно, в ту пору, когда и Огурцова гора не была такой лысой, а росла на ней редкая дубовая рощица, имелась в Куктау своя водяная мельница, а при ней запруда. В какое-то дождливое лето, после особенно сильного дождя, запруду прорвало. Починить, конечно, не дошли руки, и весной паводок унёс остатки запруды вместе с мельничными колёсами.
Сначала это никого не обеспокоило, но когда кончилась мука в ларях, жители Куктау стали чесать в затылках. Раньше хоть пуд, хоть полпуда зерна – мельница своя, поехал и смолол. А теперь надо просить подводу, ехать в соседнюю деревню, стоять в очереди, да ещё упрашивать, чтобы твоё зерно взяли. Но хотя и колхоз, и колхозники испытывали большие неудобства, восстановить мельницу так руки и не дошли. Постепенно в ближних деревнях водяные и ветряные мельницы и крупорушки тоже пришли в упадок, развалились. «Что водяная мельница – пережиток старых времён! Паровых настроим!» – говорили руководители, но пока разговорами дело и ограничивалось. Разговоры разговорами, а возить зерно теперь жителям Куктау приходилось аж в самый Балтамак. Большая там у них вода и мельница с четырьмя жерновами.
Время прошло – привыкли, словно так и должно было быть, только ребятишки и молодёжь летом страдали без запруды. От горячего степного ветра в Куктау негде укрыться: ни лесов, ни садов, ни воды хорошей нет. Мальчишки победовали-победовали и решили сами перепрудить мелководную речушку, протекавшую под Огурцовой горой.
Сначала этим занялась самая мелюзга. Выкопали два бревна, оставшиеся на месте старой мельницы, положили их поперёк речушки, подпёрли ивовыми кольями. Нарезали немного дёрна, прибавили к нему навоз и мусор с ближних переулков, получилась-таки запруда, вода начала подниматься. Едва поднялась до колена, полезли купаться – ныряли и плавали, вспахивая носами недалёкое дно запруды. На другой день, прослышав о запруде, на берегу собрались парни постарше. Понаблюдали за малышнёй, плещущейся в чёрной, как дёготь, взбаламученной воде, повыгоняли всех. Но вода не оседала, не очищалась.
Тогда пришлось и подросткам засучить рукава. Кто смог, притащили из дому несколько крепких дубовых кольев, спилили в кустарнике Ахми два старых вяза, навозили на ручной тележке камней с Огурцовой горы. Работа шла чуть ли не неделю, присоединились и совсем взрослые парни, привезли ещё навозу на подводах, утащили несколько столбов, которые связисты беспечно оставили за деревней, когда проводили телефон в Алмалы.
Запруда вышла на славу, вода поднялась аж до Дубового проулка.
Исхак тоже с увлечением включился в строительство. Бежал туда спозаранку, пропадал дотемна, опаздывал встречать стадо, выслушивал за это брань сестёр и матери, но оторвать его от увлекательного дела было невозможно. Вместе с другими подростками таскал землю на носилках, прыгая, трамбовал навоз и мусор в плотине.
Работа на запруде примирила враждовавших между собой мальчишек Верхнего и Нижнего конца. Трудились вместе, дружно, не считаясь с тяжестью выполняемой работы.