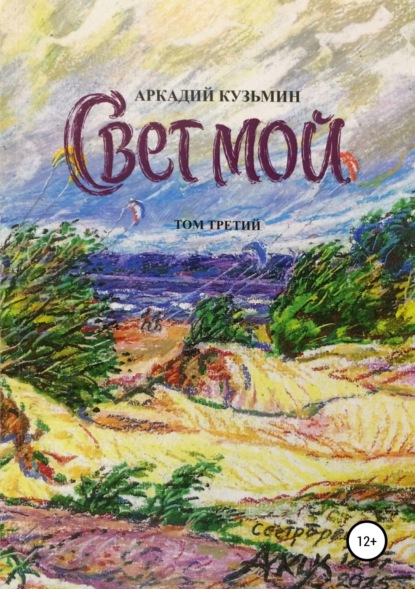По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подполковник Дыхне приказал… – считая, это произведет магическое действие, но в то же время замечая по обратившимся вдруг на него испуганным лицам штабников, что сейчас произойдет что-то непоправимое – .... распорядиться насчет привоза дров…
– Что?.. – переспросил седовласый майор, зайдясь в гневе.
И Антон, бледнея, повторил приказ, уже не в силах был остановиться.
– Что?! – багровея, вскричал взбешенный майор и отшвырнул прочь из-под ног табуретку. – Мальчишка! Не знаешь, что…
Поток обидных слов разгневанного начальника обрушился на голову Антона, и он больше ничего не слыша, лишь стоял в оцепенении. Он ничего не понимал – был не в состоянии понять; ему было досадно и обидно до слез оттого, что он чем-то вызвал столь великое оскорбление человека, которого очень уважал. Ужасные были его слова. Но, видно, справедливые в своей основе. Хорош себе! И от невозможности тут же исправить все, а также оттого, что он чувствовал, какими жалеющими глазами в эту минуту глядели на него притихшие сослуживцы, Антон нагнул голову, повернулся и выскочил вон из избы. Только на морозном воздухе опомнился мало-помалу, побрел себе. В заботе своей переусердствовал, должно.
– Ну, как, добился ты чего-нибудь? – наигранно-браво справился у него сержант Петров, потирая в нетерпении крепкие волосатые руки.
– Да, – ответил Антон угрюмо и немногословно, – сказали, что будут дрова. – В этом он был теперь почему-то уверен.
Этим же днем сущее позорище устроили ему двое местных балбесничавших парней.
Он, навестив в доме заболевшую простудой Анну Андреевну, спеша, нес обыневшей деревенской улицей кастрюльку с молоком (где-то раздобытом) – для того, что его вскипятить, когда посреди дороги два подростка преградили ему путь и стали толкать его в грудь – осаживать назад – ни с того, ни с сего. Они, одетые в тулупчики и в валенках, были рослей и здоровей его, притом с совершенно свободными руками, в отличие от него; они возвращались издалека со школьных занятий с болтавшимися на ремнях с плеч портфелями.
– Постойте, отстаньте, ребята! – Антон был обескуражен наглостью такой. – Пустите!.. Я лекарства для больной несу… разолью…
Но они лишь лыбились и гоготали от удовольствия дозволенной себе шалости, граничившей с издевательством, с провокацией.
– Перестаньте же! – просил Антон. – Вы видите: у меня руки заняты… Говорю по-хорошему вам…
Антон никогда не понимал дурашливости тех мальчишек, кто задирал товарищей, избивал младших, нападал вдвоем, втроем на одного, – дурашливость и насилие были в его глазах переходом грани нормального, естественного поведения. Он принимал только открытые, ровные товарищеские отношения – что говорится, без подвохов, начистоту.
Ну, и наивен же был тут он, увещеватель добрый!
Парни не слышали его никак. Они продолжали куражиться над ним, все пихали его назад, заставляя только пятиться и не давая ему даже нагнуться для того, чтобы хотя бы поставить кастрюльку на снег и так освободить свои руки. А вокруг было безлюдно, тихо. Пышный снег покрывал все, слепил белизной своей; редкие сероватые избы, бани тонули под ним, точно в белых шапках и воротниках.
– Да я вижу: вы же – детки полицайские! Бестолочь!..
Но они, не внимая ему, отступились от него лишь после того как втолкнули его в сарай. И был их удовлетворенный смешок в ответ:
– Ха-ха-ха! – оттого, что они позабавились так. В полной безопасности для себя.
И как же Антон, досадуя, изумился вдруг, когда заглянул вперед вновь с дороги и хорошенько разглядел в окне крайней избы, в которой помещалась армейская кухня, маячившее лицо сержанта Петрова: он спокойно, значит, наблюдал за неравной забавой парней! И даже не вышел на крыльцо, не сделал шаг, не крикнул им, чтобы усмирить их! Вот стыд и позор! И недоумение…
– Что же ты сдачи им не дал? – Сытый, благополучный крепыш Петров покраснел, покашлял. – Я бы… Сумел…
Антон смолчал. «Ничего себе позиция! Он, как старший здесь, выставил меня в хлопотах перед начальством о дровах, подвел под удар, – и был таков. Лишь красуется собой, своими мышцами, самодовольствуется… И не помог мне хотя бы окриком против парней. Дескать, выпутывайся, малец, сам: ты мужчина или нет? Ничего себе сильная мужская позиция!»
Так сразу качнулось у Антона доверие к нему и подверглось сомнению.
А вечером Антона вызвал к себе новый замполит части майор Голубцов, чему он сильно удивился. Было подумал, что, видно, сейчас крепко влетит ему за мальчишество, непонимание чего-то важного. Однако корректный суховатый замполит, прежде еще не беседовавший с ним, усадив его перед собой в кабинете отсутствовавшего подполковника Ратницкого, начал уважительно расспрашивать о том, доволен ли он службой и отношением к себе сослуживцев, часто ли он пишет письма домой.
Затем майор, сухо откашлявшись, стал осторожно выяснять, чем возмутился майор Рисс – не обидел ли его? Неизвестно, каким образом это происшествие дошло до Голубцова, кто успел доложить ему об этом – явно из-за проявления сочувствия к Антону; но все чувства в нем тотчас как-то натянулись, враз воспротивясь такому выяснению, Антон даже задосадовал. Как же, он ясно понимал, что во власти замполита было не только выяснить подлинную истину в этом случае, а и сделать ее последствием каких-то незаслуженных мер по отношению к достойному командиру. Да, был страх у него из-за того, что вследствие чего-то сказанного им, может пострадать, или будет обижена как-то совершенно неповинная ни в чем и ни перед кем личность, а не просто взрослый человек. И поэтому он уперся и только твердил непробиваемо, взволнованно:
– Честно Вам говорю, товарищ майор: я сам виноват! Я понял! Может быть, забылся малость… Я честно признаюсь…
Антон не то, что запирался отчаянно, и не то, что страшился за себя; он говорил правду сущую, единственно верную для себя, вкладывая в свои слова искренность и чистосердечность, чего Голубцов, быть может, и не ждал. Он, ровный, степенный по характеру, держа перед собой тонкие руки, проникающе заглядывал в глаза Кашину…
Что же он мог увидеть в них?
И теперь Антону было жаль напрасных усилий замполита, искавшего внеслужебное отклонение в чем-то?
Он давно и хорошо знал майора Рисса, чувствовал его характер: накоротке познакомился с ним с самого первого дня пребывания Полевого Управления под Ржевом; они обычно подтрунивали друг над другом вопреки возрасту своему, но симпатизируя друг другу. Майор Рисс, известно, был живым человеком, хоть и в возрасте, пусть и импульсивным, вспыльчивым, но нисколько ни мелочным, ни злобным. Просто Антон малость забылся перед ним в неподходящую для этого минуту, и тот накричал на него, сорвавшись, не поняв неожиданно его словесной игры. Вот что. И злоключение свершилось. До обидности. По стечению каких-то обстоятельств.
Антон уходил от Голубцова довольный собой, тем, что повел себя по-мужски, и удовлетворенный поэтому тем, как сладился с ним весь щекотливый разговор – без какого-либо урона для кого-нибудь. Что есть самое главное. А не что-то другое.
XVII
Как бы там ни было, все же вышло так, что назавтра поутру жилистый, измятый и угрюмоватый солдат Усов, в потрепанном ватнике в валенках подкатил в розвальнях к тыльной части избы – к выходу. Спросил хмуро-недоверчиво, кто еще пойдет в паре с ним лес валить, – пила-то длинная, двуручная, а дерева валить, известно, не простая ведь забава. Наломаешься.
– А я, товарищ начальник, поеду с Вами, – обезоружил Антон его.
Есть сорт особых людей – с будто неизменным характером при всех обстоятельствах и мировых событиях, даже удивляющих тем особенно в крутое военное время; причем они так ведут себя или по крайней мере делают такой вид, как будто им ровно в тяжесть любая профессия и даже собственное дело, которое они отлично делают, или набивают зачем-то себе цену, чтобы возвыситься в глазах окружающих. К их числу, по мнению Антона, несомненно принадлежал и Усов, неприветливый, несловоохотливый. Но, может, ему почему-то это только мнилось? Как то знать…
– Я смогу – да, да! – и пилить, и таскать, – сказал Антон. – Не впервой ведь мне. С отцом, бывало, езживал. Возьмете или что?
– Екши, екши, – закивал головой довольно плотный старшина Абдурахманов, жмурясь подслеповато. Никаких забот больше нет у него с подыскиванием напарника… Но кого еще послать подсобником? Да вроде бы и некого: кто в поездке какой, кто болен. Народу-то в части – раз-два, и обчелся.
Кашин сам напросился – к удовлетворению других взрослых. Ему очень хотелось поехать. Да и это же не прочесывание леса от немецких десантников, когда его не взяли дважды, ссылаясь на нехватку оружия для всех желающих…
И основательно-медлительный Усов, глянув на того, на другого свидетеля разговора и не найдя поддержки, словно в нерешительности принял его услуги и велел собраться поскорей.
– Одну минуточку… Погодите… – Антон перво-наперво по ступенькам влетел на кухню и вынес оттуда кусочек хлеба для лошади. – На, поешь!
Она потянулась к нему, захватила губами полоску хлеба, заработала челюстями.
С нескрываемым блаженством Антон сел в дровни на солому, и сани мягко – при легкой пробежке лошади – понесли их по накатанной извилистой дороге.
Под солнцем – оно проблескивало из-за пепельной пелены – мелкие снежки, искрясь, кружили в воздухе; глубокий снег всюду розовел, слепил, на нем нежно голубели тени; кусты, сосны, ели и березы, опушенные в инее, как мраморные, стояли величаво, сказочно.
Хрупкая стена леса почти сразу поглотила их еще больше глухотой, настороженностью, туманностью и нетронутостью. Здесь, сказывали местные, водились даже волки, наведывавшиеся по ночам во дворы деревни, хотя во дворах теперь было мало что от живности. Но Антон видел на снегу лишь чьи-то петлявшие следы и стрекочущих сорок, жавшихся поближе к жилью.
Казалось, то же самое уже было и это ты с отцом мчишься, так же мелькают перед тобой лошадиные копыта, выбивают комочки снега, бренчит сбруя, – все связывалось у Антона с воспоминаниями о нем.
Забравшись в лесную глубину – с пестревшим нежным березовым царством – съехали здесь с дороги и развернулись для удобного выезда опять на нее. Хотя рубка была грустной – по-необходимости, но, довольные, свалив несколько стройных, почти без сучьев, белоствольных деревьев и распилив на части для удобства перевозки, а потом, подтаскивая, накладывая и увязывая воз, очень распарились и устали от физической работы на глубоком снегу. Но зато даже угрюмый Усов заулыбался и разговорился с Антоном, которому оттого подумалось теперь, что он совершенно зря придирался в своих чувствах к нему. Был человек как человек. «Может, я еще мало что смыслю в жизни?» – задал он себе вопрос.
На обратном пути в лесу, не имевшем существенных перепадов местности, дровни с березняком катились ровно, и Антон сначала шагал за ними. Только что-то вдруг случилось, и ездовой, сидя на передке, велел живо и Антону тоже сесть на воз. Что он и сделал, не мешкая. Немедленно замелькал кнут, отчего все быстрей и быстрей понеслась вперед лошадь с возом. И, расступаясь, побежали мимо – назад – обснеженные деревья.
Что такое? Зачем? Антон с немалым удивлением взглянул на шального возницу. И тут-то увидал какого-то мужчину, которого они миновали, проскакивали с лету, не останавливаясь, вроде бы не старого еще на вид, но обросшего, воздевшего руки в рукавицах – то ли с просьбой, то ли с мольбой о чем-то. Он кричал что-то им, даже пробежал за дровнями. Однако Усов погонял кобылу с лесом до тех пор, покуда растопыренная эта фигура не отстала насовсем и не скрылась затем за поворотом.
– Он еще худо может сделать нам, – пробурчал он после в объяснении такого спурта. – Возьми его на дровни – и сам будешь пропащим. Научен уж горьким опытом…
Ужасно!
Вот повторение худшего, огорчительного для Антона. И снова заскребло на душе у него оттого, что, выходит, они взяли такой грех на себя – и он поучаствовал в том, что не помешал ездовому, – и оттого, может, человеку в беде не помогли…