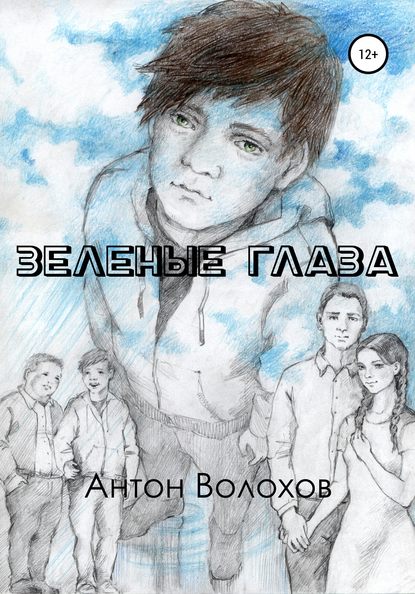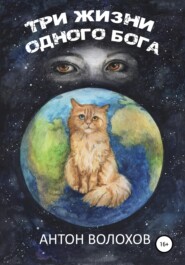По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зеленые глаза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь молчали все. Знаете, как понять, когда человек действительно потрясён случившимся? Он не знает, куда деть свои руки. Я стоял под пристальным, оценивающим взглядом Марка и думал:
«Куда же мне деть собственные конечности?»
Если рассовать их по карманам штанов – получится пренебрежение, скрестить на груди – уход в себя, схватиться за голову – выйти из себя, повесить руки по швам – нежелание думать и ждать команды. Нет у человека правильной моторики для такой ситуации, когда твой лучший друг балансирует где-то между двух миров. Только человеку совсем без рук было бы удобно. Где-то я читал, что руки человека символизируют действие. Так вот что делать, я совсем не знал.
На выходе из больницы я столкнулся с группой ребят из своего класса, они разговаривали с врачами и справлялись о здоровье Димы. Жизнь продолжала упрямо тыкать меня в собственное дерьмо, как безмозглого щенка.
Все всё знали, кроме меня, я начал это осознанно понимать. Пока я скакал перед зеркалом, как мартышка и очки, любуясь прекрасным собой, и уворачивался от пинков брата, как тореадор от быка – Дима был в реанимации.
Он не вернулся домой, когда я его по-скотски бросил у кафетерия, погрузившись в пучину эгоистичных мыслей о собственной никчёмности. А потом я неделю жрал мандарины в больничной палате и проходил обследование, после которого пришёл в школу и размышлял только о собственной шкуре, пока ребята перешёптывались между собой и не знали как мне помягче сообщить о случившемся горе. Понятно, они боялись меня травмировать. Я ведь практически сирота, на особом счету, меня жалеть надо, любить и чаще угощать шоколадом. Вплоть до совершеннолетия, дальше как-нибудь сам. И Марк с Машей не знали, как мне лучше сказать. Все переживали. Пока не поняли, что я вообще не задаюсь этим вопросом и не особо-то волнуюсь, только смотрю в проклятое зеркало, ничего не замечая.
Это подло. Подло и паскудно.
Я спросил у Марка:
– Как это произошло?
– Он вышел из кафе-мороженого и пошёл какую-то бабулю через дорогу переводить, добрая душа. Летел какой-то псих на мотоцикле и сбил его. Он головой в витрину улетел, осколок в голову вошёл. Мотоциклист жив и здоров. Бабка испарилась, а люди скорую помощь вызвали. Пострадал только он.
Мне стало совсем не хорошо. Я сел на бордюр и схватился за голову. Что там означал этот жест? Ай, да к черту все это!
– А где был ты, Тима? Вы вместе сидели в кафе, я вас видела, – спросила меня Маша.
Марк вопросительно посмотрел на меня.
Началось…
– Я д-домой ушёл, – опять я стал заикаться.
– Поругались что ли? – спросил Марк.
– Н-нет, просто ушёл. Сам. Почему-то. Вот.
Хреново отмазываюсь. Неумело. Все у меня через одно место.
Марк хмыкнул. Маша тяжело вздохнула. А мне хотелось стать кем угодно, хоть жабой в болоте, лишь бы не оставаться собой. Я чувствовал себя подонком.
Мы подошли к дому.
– Скажи, – начал Марк, – Что ты за человек такой? Когда ты научишься нести ответственность за свои поступки, как мужчина?
Я молчал, опустив голову. Ответа у меня не было.
– Знаешь, я завтра с тобой п-пойду, – сказал я Марку.
– Куда? – удивился он.
– На бокс пойду. С тобой.
– Там я ещё не краснел из-за тебя. Не пойдёшь!
– Пойду! Я пойду! – заорал я в истерике, – Сам говорил, что спорт закаляет! Пойду! Дай мне шанс!
Марк молчал.
– Он возьмёт тебя, – вмешалась Маша. – Обязательно возьмёт.
– Нет, – отрезал Марк.
– Возьмёшь! Ты возьмёшь его с собой Марк, – сказала Маша, – А ты Тима, – обратилась она ко мне, – Обещаешь его слушаться во всем. Твой брат любит тебя. И переживает всегда, а ты ведёшь себя как изворотливый плут. Нельзя думать только о себе! Ты знаешь, как он бежал к кафе, когда узнал, о случившемся? И как он бегал по больнице и искал там тебя вместе с Димой!
Я плакать захотел. Мне нужно было срочно куда-то себя деть. Последний раз, когда я заплакал, Марк мне такого подзатыльника отвесил, что глаза чуть на стенке не остались.
– Я д-домой пойду, – сказал я, снова заикаясь.
Я поднялся к себе и посмотрел в окно. Марк сидел на лавочке, а Маша стояла над ним и, активно жестикулируя, что-то ему доказывала. Он сидел какой-то понурый, сгорбился и ссутулился, но зато Маша раскрылась и пребывала во всей красе. Взяв шефство над Марком, она вела разъяснительную работу по итогам больничного саммита. Носик её заострился, щёчки покрылись румянцем, глаза горели, а брови нахмурено свелись, обнажив за маленьким ростом хрупкой девчушки, упёртую и бойкую натуру.
Я действительно пошёл с Марком на тренировку. У меня все очень хорошо получалось. Тренер сказал, что я ещё больше талантлив, чем мой брат. Но мне нужно стараться. Я прозанимался три месяца и у меня пошли первые успехи. Меня перевели в старшую группу ребят, по факту быстрого прогресса.
Как-то раз после тренировки я подошёл к Марку и твёрдо сказал:
– Я завтра после уроков пойду в музыкальную школу.
– Чего?!
– В музыкальную ш-школу. По классу вокала.
– Бросаешь бокс?!
– Нет, буду со-совмещать.
– Да ты не сможешь! У тебя только результаты пошли! Везде надо пахать!
– Я смогу. Я все с-смогу.
– Ай, делай что хочешь, – махнул рукой Марк и ушёл в душ.
А я пошёл. Захотел и смог. Там мне сказали, что у меня есть очень хорошие данные и их надо развивать. У меня все легко получалось. Только я все равно заикался, но когда я пел, почему-то мой новый недуг исчезал.
Странная закономерность.
Через полгода я пел как солист филармонии и дрался как Римский гладиатор. Все складывалось как нельзя лучше, и я ждал выздоровления Димана.
Пришло время и, наконец, его выписали. Где-то в глубине души, я чувствовал, что жизнь готовит мне какой-то подвох.
Все случилось как в лучших немецких сказках, то есть как нельзя хуже – Диман больше не улыбался, а на голове у него зиял огромный шрам. Когда я подошёл к нему и спросил:
– Диман, ты как?