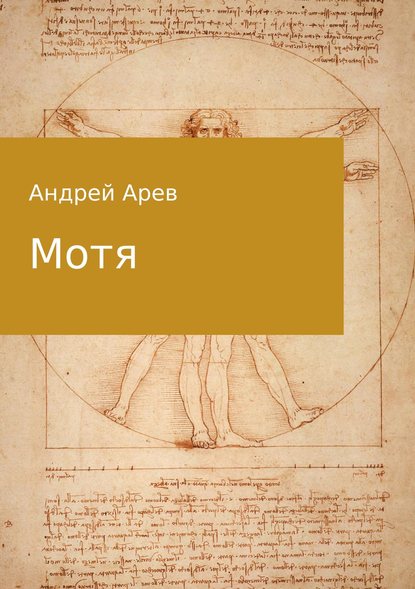По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мотя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тоже не проблема, нас сердце Завенягина проведет, я знаю, – Нюра достала из-за пазухи коробочку и приоткрыла ее, любуясь зеленым сиянием.
– Тогда предлагаю в гостиницу, как раз на левом берегу есть, «Азия» называется. Нам же только ночью олений парк искать, а он тоже на левом. Отоспимся и пообедаем нормально.
Они сели в нужный трамвай – здесь они ходили в сцепке из трех вагончиков – и оправились на левый берег Урала. Гостиница оказалась старым помпезным зданием желтого цвета: «золотая дремотная» – прокомментировала Мотя.
– Ну, почти, – согласился Кока, – 1929 год.
Кока протянул дежурной за стойкой какие-то очередные бумаги о слете юных металлургов, та было засомневалась, но Мотя и Нюра в школьной форме с белыми передниками и красными галстуками так лучезарно улыбались, что ключи от номеров они таки получили. В гостинице было пусто, хотя и всюду раздавались какие-то звуки: то радиопомехи из транзистора, то щелчок звукоснимателя, то женский смех, то густой баритон, напевавший «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…» – но постояльцев видно не было.
Кока в своем номере завалился на кровать с неизменным Стивенсоном, девочки же, напевая «Отоспимся в гробах», отправились на правый берег, в Европу – разглядывать сталинские архитектурные излишества и фотографироваться у памятника Первой палатке. Они погуляли почти до вечера, перекусили в пельменной, и отправились в гостиницу, выспаться перед ночными приключениями. Кока к тому времени уже проснулся, составил план местности, раздобыл где-то кирку, и теперь расхаживал по номеру с позаимствованным у соседа приемником в руках, из которого доносилось: «в шорохе мышином, в скрипе половиц…». Нюра вручила Коке бумажный пакет с пирожными, и они договорились встретиться ночью в вестибюле, в 23.00.
В назначенное время, выспавшиеся, они вышли из гостиницы. Метель ночью стихла, потеплело, и повалил снег. Выспавшиеся девочки, дурачась, ловили языком большие снежные хлопья и смеялись, Кока же был отчего-то мрачен, кирка на его плече угрюмо поблескивала.
– Ну же, Смирнов, проснись! – сказала веселая Нюра, – вот я тебе спою!
Она жарко зашептала ему в самое ухо:
– Как медузы после шторма
В предрассветном хлороформе
Мы движемся на ощупь,
Спать хочется до тошноты…
Кока помотал головой, ему было щекотно от шепота Нюры, но тут уже Мотя зашептала ему в другое ухо:
– Жизнь печальна, а сон так сладок,
Так стоит ли играть с мозгами набок?
Но я прошу тебя: верь мне,
Верь мне, верь мне…
– А скажите, девочки, – сказал Кока, чтобы отвлечь их, – вы читали стихотворение Андропова про смерть?
– «Да, все мы смертны, хоть не по нутру Мне эта истина, страшней которой нету», – процитировала Нюра, – это?
– Ага, – подтвердил Кока, – мне там один момент непонятен. Вот он пишет: «Мы бренны в этом мире под луной: Жизнь – только миг (и точка с запятой); Жизнь – только миг; небытие – навеки». Как же небытие навеки, если «точка с запятой»? То есть, дальше продолжение, раз точка с запятой? Скажи мне, Одинцова, как бывший командир звездочки?
– Ну что ж тут непонятного, Кока? Там дальше: «Но сущее, рожденное во мгле, Неистребимо на пути к рассвету. Иные поколенья на Земле Несут все дальше жизни эстафету». Это же буддизм чистой воды, как и положено. Что Ленин о душе говорил? Что когда горящая свеча соприкасается с негорящей, то пламя не передается, но является причиной, из-за которой начинает гореть вторая свеча. То есть, ты умер насовсем, но точка с запятой в виде второй свечи – есть.
– Не, ребят, Андропов чекистом был, а значит – мистиком. Вы послушайте только: «но сущее, рожденное во мгле»! Кто у нас во мгле рождается? То-то! – Мотя рассмеялась.
– Тоже верно, – поддержала подругу Нюра, – «и не-рыбы вместо рыб будут плавать там». Здорово.
– И рожденные во мгле сущности, согласно буддизму, являются не чертями и прочим инферналитетом, а защитниками учения, единственно верного, и потому непобедимого, – подвел черту Кока. – Все равно Брежнев лучше писал: «Это было в Лозанне, где цветут гимотропы, где сказочно дивные снятся где сны. В центре культурно кичливой Европы в центре, красивой, как сказка страны».
– Ты сравнил! – сказала Нюра, – Брежнев не чекист, во-первых. И, во-вторых, постарше Андропова, он же с 1906 года, по малолетству еще излет Серебряного века застал. А Андропов – с четырнадцатого года.
– А вот, кстати, эта строчка, – Мотя закружилась на месте, словно танцуя в лунном свете, – «где сказочно дивные снятся где сны» … он же специально запятую там не поставил…
– Конечно, – подтвердил Кока, – можно – «где сказочно дивные, снятся где сны», а можно – «где сказочно дивные снятся, где сны». Сад, где сны и лисы.
– Эй, фининспекторы! – остановила их Нюра, – Заканчивайте о поэзии. Мы, кажется, пришли.
Они стояли на холме в бывшем элитном поселке Березки или, как его еще называли, Американка. Молодой архитектор Сапрыкин строил здесь дома по американским архитектурным каталогам и когда-то поселок напоминал какой-нибудь Маунт Вернон в штате Нью-Йорк или же Джермантаун в какой-нибудь Пенсильвании – теперь же он выглядел, по меньшей мере, странно.
Из темноты выступал дом, вернее, призрак дома, такой же странный и мрачный, как знаменитый Косой дом, в окнах кое-где, казалось, горел слабый свет, а фантомы этажей будто нависали над улицей. Кока открыл необычно, пугающе бесшумную дверь.
– Когда-то здесь был огромный сад, три этажа и четырнадцать комнат, – сказал он; пар из его рта, подсвеченный фонариком, казался воздухом, который выдохнул водолаз, – бильярдная, игровая и музыкальный салон.
Мотя и Нюра, притихшие, так же медленно, словно на дне океана, двигались за Кокой, еле передвигая ноги, будто сквозь слежавшиеся в доме слои времени, призраки людей, растений и звуков, чувствуя себя героями американского фильма ужасов.
– Lizzie Borden took an axe
And gave her mother forty whacks.
When she saw what she had done
She gave her father forty-one, – прошептала Нюра, указывая на кирку на плече Коки, и хихикнула.
В конце концов, они прошли сквозь дом и оказались в бывшем оленьем парке-заповеднике, который находился на заднем дворе завенягинского дома. Нюра вытащила из-за пазухи коробочку с сердцем и открыла ее – зеленоватый свет осветил ее лицо. Она сделала несколько шагов, и свет разгорался все ярче, и сердце билось все чаще. Мотя и Кока услышали глухой гул, раздающийся из-под земли. Нюра, как заправский сапер с металлоискателем двигалась по бывшему парку, держа в руках коробочку с сердцем, наконец, остановилась, Кока раскидал ногами снег, и ударил киркой в замерзшую землю.
Через некоторое время вспотевший Кока остановился – кирка пробила проржавевший лист жести и выдернула из земли обломок подгнившей доски. Нюра аккуратно положила коробочку с бешено бьющимся сердцем на снег, и все вместе они расчистили выкопанную Кокой яму, вытащили доски и увидели большое черное сердце, вырезанное Верой Мухиной из графита.
– Что будем с ним делать? – спросил Кока, вытирая со лба пот, – до гостиницы нам его не дотащить.
– Оно еще и бьется, – сказала Мотя, – мы всю гостиницу перепугаем.
– Вношу предложение оставить его здесь, – Нюра присела и погладила черное сердце, – заложим досками, снегом подсыплем и как-нибудь пометим, чтобы легче найти было. А пока пойдем спать, и с утра – на комбинат.
– Единогласно, – сказала Мотя, – так и сделаем.
Кока согласно кивнул, они уложили поверх найденного сердца доски, присыпали снегом, и сверху воткнули найденную у забора кленовую ветку с высохшими «самолетиками».
17
В гостинице они никого не встретили, кроме дежурной, дремавшей перед экраном маленького «Silelis». Снова слышался баритон, снова смех – и снова никого.
Утром они отправились на комбинат. Кока опять был хмур, и долго оглядывался на улыбающуюся им вслед дежурную.
– Что с тобой, Кока? – спросила Мотя, – чего ты на мрачняке? Не выспался?
– Выспался, – ответил Кока, – это кайдан, Мотя. Это кайдан.
Мотя остановилась.