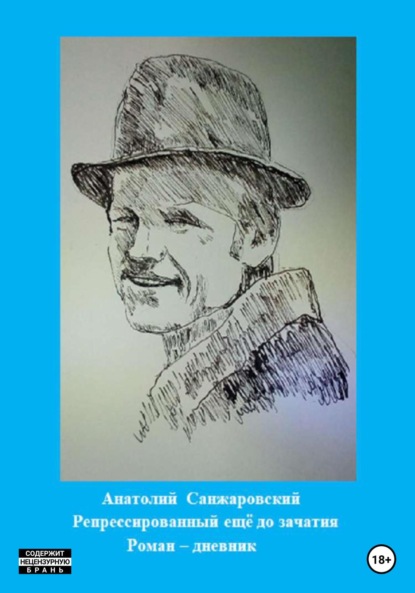По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Правоз цитруси катэгорически заприщион Законом!
– Что бы это значило? – спросил я кассиршу, кивнув на это объявление.
– Это значит, дорогои, ни один мандаринка нэ улэтит на самолёт от Батуми.
– А у меня их десятка три. Гостил у друга детства. Подарил. Из своего сада…
– Хо! На мандаринка нэ пишут, где он вирос-да. На совхоз-плантации или у друга в саду. Эщё не виполнен государственни план, ни один мандаринк нэ убэжит налэво или направу. Кажди мандаринка одэнут в хорош бумаг с гэрбом Грузии и отправят-да куда надо.
– Я жертвую подарок друга. На сегодня один билет!
– На сэгодня ничаво нэту. Толко на послезавра!
Не сидеть же тут ждать. На поезд! Мне бы только добраться до первой русской берёзки….
В вагоне я попросил проводницу, чтоб она сдала меня медикам на первой же русской остановушке, и, корчась от боли, сжался в комок на нижней полке.
– Я скажу начальнику поезда, и он даст телеграмму на ближайшую станцию, чтоб вас встретили медики, – заверила проводница.
Ничего. Перетерплю. Выскочу на поезде за грузинскую границу и у первого же русского столба сойду. Пускай русский скальпель вершит мою долю!
Но Русская Поляна – первая русская остановка – как-то не заинтересовалась мной и прохладно проводила меня дальше.
Да что Русская Поляна?
И Адлер, и сам Сочи, и Туапсе отмахнулись от меня!
Уже десять часов в пути. Вот и Белореченск.
Простояли четырнадцать минут.
Вернулся из буфета с кульком яблок сосед с верхней полки.
– Да вас так и не сняли? – подивился он. – А проводница флиртует на перроне с усатыми грузинами. Без билетов везут в тамбуре гору мандаринов в ящиках до Ростова. Ой, да вон и медсестра прохаживается в скуке под нашим окном.
Парень побежал в тамбур. Слышу его голос:
– Доктор! Доктор! У нас больной. Идите к нам в тринадцатый!
И через минуту в вагон ворвалась крепкая, гренадерская деваха в халате поверх фуфайки и, набатно стуча коваными кирзовыми сапожищами, державно прошагала сразу ко мне и карающе наставила на меня пистолетом толстый ответственный указательный палец:
– Выходим!
– Да знаете… Мне лучше… Доживу до Москвы…
– Так мы выходим? – строго заинтересовалась она.
– Мы – нет, – на вздохе неуверенно пискнул я из своего угла.
– Тогда рисуем художественную расписку.
Я не любил раскидывать свои автографы и, подхватив портфелишко, поплёлся, кривясь от боли, за гордым белым халатом.
Из вагона я выходил при красном флажке, поднятом проводницей. Держала весь поезд.
В районной больничке меня расквартировали на коридорном диване.
Тут же ко мне подсела на круглом табурете с дыркой весёлая старушка и кокетливо кинула мне на грудь тёплое белое облачко мыльной пены.
– Что вы вытворяете? – проявил я слабый интерес к облачку.
– Я не вытворяю… А на работе служу… Я, сынку, буду брыть твою бледную грудинку.
Я торопливо накрыл свою грудь ладонями.
– Не трогайте мою родную шерсть! Не для вас растили.
– Валадимир Артёмович, – поворотилась она к проходившему мимо хирургу Толмачёву, – оне дужэ брыкаються. Ну нипочёмушки не даються брытысь!
– Больной! В чём затор? У вас язва желудка. Этот диагноз поставил вам и хирург из привокзального медпункта Не тяните время. Перед операцией и секунда дорога.
– Доктор! – взмолился я. – Да зачем мне брить грудь? Да мой желудок!.. Никогда не болел! Я и не знал, что он у меня есть. Глотал ржавые кривые гвозди – выскакивали блестящие ровненькие! Что хотите! А желудок я не дам вам раскроить!
Владимир Артёмович сильно нажал мне на живот и резко отнял палец:
– Куда болька побежала?
– Вниз нырнула… Вправо…
Он ещё несколько раз нажимал и отпускал, и я всякий раз разбито бормотал:
– Вниз… Вправо…
– Гм… – принципиально нахмурился Владимир Артёмович. – Будем считать условно, что вы безусловно правы.
И нянечке:
– Брейте низ!
Трудная операция длилась больше часа.
Не в силах сдерживать себя я безбожно стонал от боли.
– Доктор, вы обещали показать, что там у меня…
Из ведра он брезгливо достал отросток. Местами чёрный, местами ярко-красный.
– Вот такой собашник. Пройди ещё час, и он лопнул бы. И тогда никакая операция вас не спасла б.
– Что бы это значило? – спросил я кассиршу, кивнув на это объявление.
– Это значит, дорогои, ни один мандаринка нэ улэтит на самолёт от Батуми.
– А у меня их десятка три. Гостил у друга детства. Подарил. Из своего сада…
– Хо! На мандаринка нэ пишут, где он вирос-да. На совхоз-плантации или у друга в саду. Эщё не виполнен государственни план, ни один мандаринк нэ убэжит налэво или направу. Кажди мандаринка одэнут в хорош бумаг с гэрбом Грузии и отправят-да куда надо.
– Я жертвую подарок друга. На сегодня один билет!
– На сэгодня ничаво нэту. Толко на послезавра!
Не сидеть же тут ждать. На поезд! Мне бы только добраться до первой русской берёзки….
В вагоне я попросил проводницу, чтоб она сдала меня медикам на первой же русской остановушке, и, корчась от боли, сжался в комок на нижней полке.
– Я скажу начальнику поезда, и он даст телеграмму на ближайшую станцию, чтоб вас встретили медики, – заверила проводница.
Ничего. Перетерплю. Выскочу на поезде за грузинскую границу и у первого же русского столба сойду. Пускай русский скальпель вершит мою долю!
Но Русская Поляна – первая русская остановка – как-то не заинтересовалась мной и прохладно проводила меня дальше.
Да что Русская Поляна?
И Адлер, и сам Сочи, и Туапсе отмахнулись от меня!
Уже десять часов в пути. Вот и Белореченск.
Простояли четырнадцать минут.
Вернулся из буфета с кульком яблок сосед с верхней полки.
– Да вас так и не сняли? – подивился он. – А проводница флиртует на перроне с усатыми грузинами. Без билетов везут в тамбуре гору мандаринов в ящиках до Ростова. Ой, да вон и медсестра прохаживается в скуке под нашим окном.
Парень побежал в тамбур. Слышу его голос:
– Доктор! Доктор! У нас больной. Идите к нам в тринадцатый!
И через минуту в вагон ворвалась крепкая, гренадерская деваха в халате поверх фуфайки и, набатно стуча коваными кирзовыми сапожищами, державно прошагала сразу ко мне и карающе наставила на меня пистолетом толстый ответственный указательный палец:
– Выходим!
– Да знаете… Мне лучше… Доживу до Москвы…
– Так мы выходим? – строго заинтересовалась она.
– Мы – нет, – на вздохе неуверенно пискнул я из своего угла.
– Тогда рисуем художественную расписку.
Я не любил раскидывать свои автографы и, подхватив портфелишко, поплёлся, кривясь от боли, за гордым белым халатом.
Из вагона я выходил при красном флажке, поднятом проводницей. Держала весь поезд.
В районной больничке меня расквартировали на коридорном диване.
Тут же ко мне подсела на круглом табурете с дыркой весёлая старушка и кокетливо кинула мне на грудь тёплое белое облачко мыльной пены.
– Что вы вытворяете? – проявил я слабый интерес к облачку.
– Я не вытворяю… А на работе служу… Я, сынку, буду брыть твою бледную грудинку.
Я торопливо накрыл свою грудь ладонями.
– Не трогайте мою родную шерсть! Не для вас растили.
– Валадимир Артёмович, – поворотилась она к проходившему мимо хирургу Толмачёву, – оне дужэ брыкаються. Ну нипочёмушки не даються брытысь!
– Больной! В чём затор? У вас язва желудка. Этот диагноз поставил вам и хирург из привокзального медпункта Не тяните время. Перед операцией и секунда дорога.
– Доктор! – взмолился я. – Да зачем мне брить грудь? Да мой желудок!.. Никогда не болел! Я и не знал, что он у меня есть. Глотал ржавые кривые гвозди – выскакивали блестящие ровненькие! Что хотите! А желудок я не дам вам раскроить!
Владимир Артёмович сильно нажал мне на живот и резко отнял палец:
– Куда болька побежала?
– Вниз нырнула… Вправо…
Он ещё несколько раз нажимал и отпускал, и я всякий раз разбито бормотал:
– Вниз… Вправо…
– Гм… – принципиально нахмурился Владимир Артёмович. – Будем считать условно, что вы безусловно правы.
И нянечке:
– Брейте низ!
Трудная операция длилась больше часа.
Не в силах сдерживать себя я безбожно стонал от боли.
– Доктор, вы обещали показать, что там у меня…
Из ведра он брезгливо достал отросток. Местами чёрный, местами ярко-красный.
– Вот такой собашник. Пройди ещё час, и он лопнул бы. И тогда никакая операция вас не спасла б.