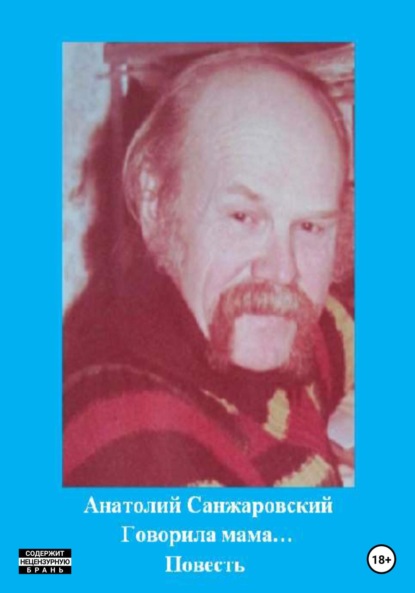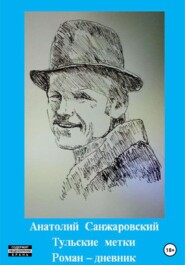По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Говорила мама…
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Случай другой… Пока глупость мне воевода… Похоже, завис[74 - Зависнуть – полюбить.] я… Женюсь!
– Хочешь новых проблем – женись! Однако веселей будет. Давно пора. Наконец-то… Куда не едешь, там не будешь. Куй железо, пока не остыло. Шашку наголо тебе в руку и горячего боевого коня в придачу!
– И куда мне лететь с шашкой на коне?
– Ка-ак куда? На завоевание сердца целинки!
– И конь не нужен, и шашкой махать не к чему. В соседнем же бараке кукует.
– Опа-на! Расшибец![75 - Расшибец! – превосходно!] Глядишь, сораторите ребёночка-молоточка, эту совместную пылкую божественную баркаролу на праздничную вольную тему, и покуривай себе бамбук![76 - Курить бамбук – радоваться.]
– А мы, что интересно, берём уже с готовеньким… Чтоб потом не обливаться потом при давке блох.
– Расшибец в квадрате! Не так уж и плохи дела в нашем орденоносном колхозе! Полдела скачано! Но… Ты заранее подумал о его пропитании? – Я деловито посмотрел в окно. – Не похоже… Не вижу ни одного вагончика, ни одного огурчика…
– Ты чё лалакаешь? Какие ещё вагончики? Какие огурчики?
– Обыкновенные! По подсчётам британских учёных, за свою жизнь человек съедает до сорока тонн продуктов, включая 3201 огурец и восемь пауков. Пауками человек харчится во сне. Как учёные всё это обосновали? Уму недостижимо.
– Хватит крутить ламбаду! Ну совсем замумукался я с этим своим сералем. «Мало того что годы летят, словно птицы, так они ещё гадят и гадят нам на голову!» Огороды на мне. Готовка… Вечный неустрой… Мама часто болеет… Недосып. На мне ж все собаки! Всё делал. Ничего из рук не вырывалось! Мозоли, как у гориллы… Да сколько можно? Крутишься ж, как шизокрылый вентилятор! «Ни одна собака не поверит, что наша жизнь собачья»! Надоело. Женюсь!
– А она бить с крыла[77 - Бить с крыла – бить противника на кулачках, заходя сбоку (запрещённый приём).] не будэ нас обох? – забеспокоилась мама. – С капризной же начинкой. Привередливой бабе и в раю плохо, и в аду холодно.
– Товсту та гарну выбрал? – спросил я на мамин лад.
– А чё её выбирать? Не корова… Средняя так… Не страхозявра какая там в скафандре… Путёвая… Лет сорока… Начитанность[78 - Начитанность (здесь) – пышная грудь.] и образованность[79 - Образованность (здесь) – толстая задница.] на уровне моего уважаемого евростандарта. Только уж чересчур простяшка… Ну ни воровать, ни караулить…
– Там здорова, як мурлука! – пожаловалась мама. – Не знаю, шо в ней Григорий и раскопал… Прямо бугаиха… На всё время бувае. Когда цветок цветёт вовремя – хорошо. А как цветёт не в своё время – он уже отцвёл. Отделался. Отбалакался.
– Когда ж, пан Григореску, свадебка? – копаю я в глубь радости.
– А вот спешить как раз и не надо! Всё в своё время.
– Ну-ну… Всё стукаешься головой об небо… Плохому танцору мешают ноги… Сколько можно бегать по одним и тем же граблям? Ну когда ты кончишь переливать эту сладкую водичку из пустого в порожнее? Или ты совсем не дружишь со своей головой? Подумал бы, сколько тебе лет… Чего ждёшь?
– Не чего… А кого. Подожду ещё трёх чеховских сестричек. Где они плутают? Помнишь, в конце пьесы сестрички хором стонали: «В Москву! В Москву!». Слышал даве по радио, в 1926 году пьесу «Три сестры» поставили в Лондоне. Англичане будто не слыхали слова Москва и не знали, куда просились сестрички, и сестринский призыв заменили на свой, родной: «В Лондон! В Лондон!» Так куда ушуршали сестрицы? В Москву? В Лондон?
– А может, в Нижнедевицк? Персонально к тебе? Три невесты! Выбирай, пан Григореску!
– И я о том же. За мною не прокиснет.
– Ну братуля-уля-люля! Да тебя ж женить всё равно что шелудивого порося стричь! Визгу много, а шерсть-то где?
27 августа 1992
Мамин платок
Мама лежит в кухоньке у печки на своей койке. Печка – божья ладонь. Даёт и тепло, и еду. Печь в доме Госпожа-а…
Я сижу на краю койки у мамы в ногах.
Перед нею на полном мешке с сухарями платок из козьего пуха.
– Ма! А что Вы с платком делаете?
– Да дуриком валяется себе… Мы с ним на пензии. Отдыхаемо напару… Шоб мне скушно нэ було… Он у нас тяжелоранетый. Увесь на дырках. Мыши попрогрызали.
– Он бы нам сгодился. Гринчику для прогулок.
– А шо? Завяжи маленького, положи в коляску и гуляй. Дырки нитками позаплутать… Я с Григорием побалакаю… Гри-иша! – крикнула она в комнату за жёлтыми шторами в дверном проёме, где вечерами Григорий смотрит телевизор и одновременно спит. В комплексе. Господин Универсалкин наш!
Григорий выглянул из-за шторки.
– Григорий свет Батькович! Цэй платок трэба аннулировать. Хай в нём малэнький Гриша гуляе по Москви!
– А большому Грише в Нижнедевицке уже и дышать не надо?! У меня ж радикулитище! Как закрутит спина, я натру спиртом и хоп в платок. Два дня поношу и зверюга боль отбывает на покой. Оставить большого Гришу без платка… Да Вы что?
– Ха! – щёлкнул я себя ногтем в ладошку. – Я тоже как-то выбился в радикулитики. Шерстяной платок таскал под поясом. Побежал к врачуну. А он: «Ты чего маешься дурью? У тебя свой кулак с собой? Не потерял?» – «Пока без потерь». – «Растирай и пройдёт». И помог я себе кулаком. А у тебя кулака нету?
– Нету! – рубнул Григорий.
– Так на мой! – в подсмехе мама подаёт свой сухонький кулачок, сине перевязанный жилками.
– Оставь себе, бабунюшка. В хозяйстве сгодится.
Сердитый Гриша уходит во двор.
А мама в шутку грозит ему в спину кулачком:
– Мы тоби, генерал, дамо прочуханки!
Мама трудно поднимается, тихонько идёт в Гришину комнату, к шкафу, и возвращается с клубком шерстяных ниток.
– Оюшки! Малюсенькому на носочки хватэ! Если б я не лежала, я б и… Пух есть. С козы Гальки… Есть из чего вязать. Я б сделала. Да здоровье мое бастуе. Голова совсем сама в отставку ушла… Даст Бог, подлечимся. Голову надо держать. Без головы не будешь работать.
Она подала мне клубок и тут же забрала:
– Дай я перекрестю.
Крестит и шепчет.
Всех слов я не разберу.
– … дай Бог ему счастья и здоровья на далёких дорогах его жизни, во всех его работах… Помоги и спаси нас, Господи, грешных… Постой, я встану, начну ходить. Шо-нэбудь придумаю…
Она долго молчит и роняет, ни к кому не обращаясь:
– А мне наша завалюшка наравится. Притерпелась…