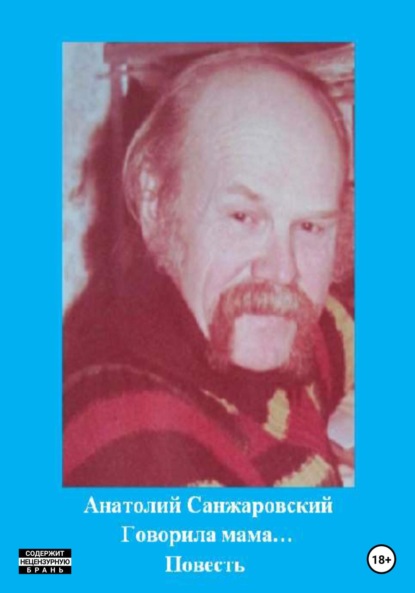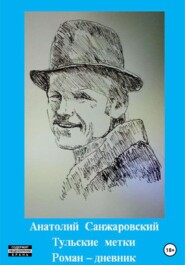По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Говорила мама…
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты, вихревей, слишком грубо мне льстишь! – хохотнул я. – Ты всерьёз считаешь, что у меня есть что разбрызгивать?
– Без митинга надевай малахай! И будешь, как господин 420.
– А без малахая нельзя пробиться в господа?
– Без малахая можно прибиться к штрафному стольнику. Зачем нам такие барыши?
В Разброде мы раскланиваемся с Алёшей и по полю ещё долго бредём к своей делянке.
Люди уже давно выбирают.
Стыдно глядеть в глаза. Во сони ползут!
Ну ёханый бабай! Удружили нашим огородец аж за четыре километрища. Хорошо, что у наших за сараем жирует клочок земли. А не будь его, как у жильцов новых домов? За моркошкой, за луковым пером к обеду слетай за восемь кэмэ?
В поле жуткий ветер.
Я не знаю, как и быть. На мне фуфайка, трико под брюками, глубокие калоши, мои бумажные и мамины пуховые носки.
Как-то неохота, чтоб просквозило.
Парит.
Гриша подкапывает.
Я выбираю.
Я весь мокрый. Хотел подраздеться.
А Гриша:
– Не смей расчехляться! У меня спина всё время мокрая. Прохладно.
Гриша следит, чтоб я выбирал чисто.
По временам он перекапывает за мной. Нашёл раз картошину, в укоризне шатает головой, цокая языком:
– Это ж на целый суп!
– Лучше б посматривал, как тут сам вчера рвал фасольку. Сколько побросал!
За весь день мы присели лишь минут на десять. На мешках. Когда обедали.
Руки у него, копача, чистые. А у меня, как у чушки.
Перед едой он советует:
– Ты экономно помой два пальца. А на остальные воду не переводи.
У нас воды-то одна бутылка с наклейкой «Мартуни». Бутылка из-под азербайджанского вина.
За компанию вместе с двумя пальцами как-то нечаянно вымыл я ещё три. И вовсе не потому, что вода мешала, а потому, что и остальные пожелали за обедом быть чистёхами.
С непривычки я устал как бобик.
И больше всего я боялся сесть.
Иначе потом каким домкратом меня подымешь?
После обеда над нами без конца кружил, покачивая крыльями, кукурузник.
Пролетит чуть ли не на бреющем с финтифлюшками и скроется за бугор. Через полчаса опять несётся дебил. Лыбится во всю картинку. Совсем унаглел! Или он из шизиловки сбежал и ему не хрена делать? Так хоть керосин не порть!
И когда он в очередной раз с фигурами дребезжал над нами, я в распале погрозил ему кулаком с выставленной чёрной дулей.
И больше жужжало не проявлялось.
В полпятого пришла машина.
Грише это не понравилось:
– Васёк! Чего так рано прискакал? Мы ж договаривались на полшестого!
– Ну Ядрёна Родионовна – Пушкина мать! Я ж, Гришок, плохо переношу конкуренцию. Боюсь, а ну кто другой перехватя, я и останься, как дурёка, тверёзый? Хочу, чтоб во мне постоянно кипела непримиримая гражданская война белых с красными…[60 - О винах.] Жизнь-то тут как?
– Да бьёт по голове и всё буром.
С шофёром увязался ещё один момырь, любитель чужих стаканчиков. Витёк. Слесарь с маслозавода.
И Васёка, и Витёка как-то остервенело хватали огромные чувалы и, раскачав, картинно вбрасывали в кузов. Будто они были с пухом.
– Вишь, – шепчет мне Гриша, – как огнище заставляет вчерняк арабить? Что значит оплата натурой. Водяра правит деревенским миром!
Скоро все одиннадцать мешков покоились на машине.
Закрыли борта.
– Ты, – плутовато подмигнул мне приятка шофёра, – мешочка три прихватизируй в панскую Москву. Как гостинчик.
– Да где он будет её хранить? – возразил Гриша.
– А зачем хранить? Продаст! У нас, в Нижнедевицке, три рубляша за килограммидзе! Жи-ву-ха! Как у тебя жизнёнка? Красивая? Как в «Правде»? Ты сейчас где рисуешь? Не в этой ли «Правдуне»?
– Никогда я там и строчки не опубликовал! И не собираюсь!
– Так-то оно лучше. Как её Боря-бульдозер уделал? Не опомнилась – уже без девиза. Как без пролетарских трусиков. Голенькая кларка целкин. Не зовёт пролетарии в один шалаш. И Ильича посеяла с груди. Обновилась. Тазиком накрылась.
Я еле дополз до нашего чума, до койки. И рухнул.