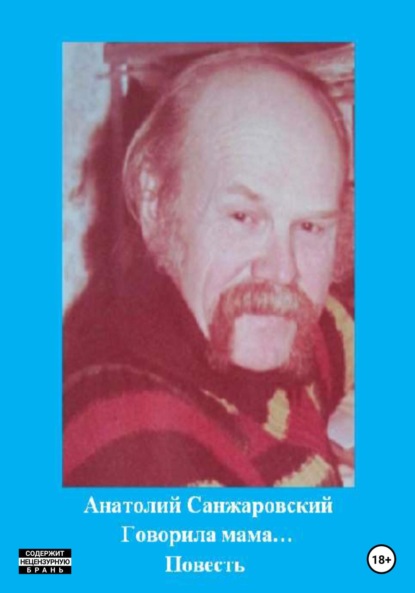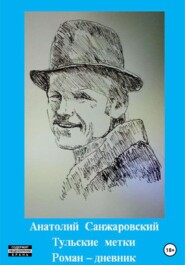По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Говорила мама…
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С-солнце! – распрямившись, варяжно рявкнул Григорий в оружейных хлопках плаща.
Великанистый, могучий, в размётанной по груди былинной бороде, он и впрямь походил на богатыря.
– Страшно! Вся Гусёвка чёрная, – показал он на низ неба. – Все пакости от госпожи Гусёвки! Иди, пока ещё ходится. Я не понимаю, зачем ты прибежал!
Я тоже не понимал. Был ветер. Заходил дождь. Все основания для домашней отсидки.
Но я приплёлся.
Наработал!
Весь мокрый. Потряхивает озноб.
Гриша наступил ногой на куст, к которому я потянулся обирать.
– Командировка выписана. До-мой!
Я не стал противиться. Выписана так выписана.
– Извини, – бормотнул я повинно и побрёл к дороге.
Я шёл с бугра боком, боясь загреметь на осклизлой мокреди.
Глубокие калоши нацепляли пуды грязи, выворачивались, всё норовили сорваться с ног. И срывались.
Тогда я тыкался бумажным носком в сырь.
У большака две милые юницы в лёгких платьицах, мокрые, как вода, сушили на ветру газовые косынки, поднявши их над головами, и беззлобно препирались. Уходить или не уходить?
– Скажите, – обратились они ко мне. – Рассудите нас. Дождь будет?
– Нет! – вызывающе крикнул я.
– Тогда чего ж капитулировали со своего картофельного рубежа?
– Родина приказала!
– А-а, – уважительно покивала головой одна янгица. – А в том приказе не было наших фамилий?
Я сделал вид, что не слышал, и пошёл себе.
– Да айдаюшки и мы! Бу-удет дождь. Ещё какой! Чего?! Картошка не наша…
Я не вытерпел и съехидничал:
– Обязательно будет! Ну раз картошка-то не ваша!
И радостные девичьи ноги в шалости благодарно зашлёпали по грязи у меня за спиной.
Асфальт дороги залила жижа пальца на полтора, и всякая пробегающая машина норовила оплевать тебя с корени до вышки.
Дорога немного разогрела меня. Расхотелось одному плестись, я срезал шаг. Авось нагонят милые улыбашки.
Только я так подумал, как пеструшек окликнул старчик со встречной телеги. В кузовке он стоял на коленях с вожжами в руках. Ноги в кирзовых сапогах держали попиком жёлтое пластмассовое корыто. Казалось, ехал дед в жёлтой нише.
– Дедунюшка! – крикнула одна из девушек, грациозно всплывая на телегу. – Да что ж вы едете, как в стоячем гробу?!
– Ну, – равнодушно махнул рукой старик, – не до разбору. Стоячий там, лежачий… А сыпани дождина, я загодя уже в укрытии. Дождь ноне обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Добрый ноне дождь… Айдаеньки, королевишны, заберём, что вы там укопали.
И увёз моих хорошек.
6 сентября 1991
Розовая улыбка Ларисы
Дома я напился настоянного на смородиновом листу горячего чаю с малиновым вареньем, попарил ноги и шнырь под одеяло. Имею полное законное право! Как тяжёлый пострадалец на славном трудовом фронте.
За окном озверело буянил ливень. И до того разошёлся, что его тонкий пристанывающий рык стоит и в нашей курюшке: нитяные белые струи, не прерываясь, монотонно льются в ведро посреди комнаты.
Два тазика по углам.
Второе ведро торчит в сенях.
И эти четыре водолпада с тоскливой ненавистью бандитничают в нашем бурдее,[65 - Бурдей – цыганский шалаш.] наглюще поют, когда хотят. Хоть день на дворе, хоть ночь. Они – хозяева!
Боже! Боже!
В какой дырявой пещере мы кукуем?
Эта маслозаводская сарайная засыпушка была рассчитана на тридцать лет. Срок ей давно вышел. А она стоит.
Обмазка на внешней стороне стен отстала. Сильно постучи ночью вернувшийся со смены Гриша, чтоб разбудить мать, – завалит наш «государев дом», дающий течь при первых дождевых каплях.
«Государев дом»…
Приделанные Гришей сенцы, кухонька и одна жилая комнатка. Двенадцать метров. На двоих.
Двое на двенадцати квадратах четвёртый десяток лет!
Мать и сын – в одной комнате.
В какой Африке так живут?
Законом нельзя взрослым разных полов жить в одной комнате. Законом нельзя. А – живут!
Мамина койка на кухне почти вприжим к плите.
Гришина койка в комнате.