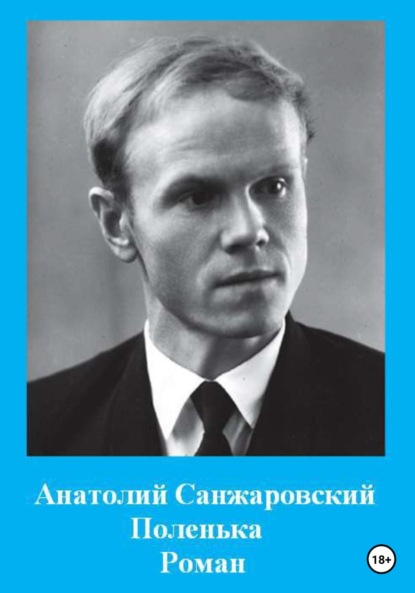По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Щосуботоньки чесана,
Щонидилиньки квитчана,[40 - Квитчана – украшенная цветами.]
За один вичорок потиряна».
Пела она скорей себе, а не сыну. Сын уже спал в колыбельке, в обычной плетёной ивовой корзинке. После самого дома она была самая старшая, вторая в доме по старшинству. Её не раз поправляли, подплетали новыми прутьями, и это не вредило её особому почёту, потому что в ней начинали расти все, кто жил и живёт ныне в доме. Случалось, старик вгорячах выкидывал её, дряхлую, за клуню. Проходил какой час, он летел за ту же клуню, проклинал своё легкомыслие. «Да в ней же весь наш род вырос и не нужна? Помешала?» Снова поднимал её на чердак, в тёплышко, откуда её ещё раза три выбрасывали и скоро возвращали. И вот дождалась старенькая колыбелька нового жильца. Митенька сладко спал в ней. Подрагивали розовенькие ноздри, шевелились губки. Они пахли черносливом.
Услышала пенье свекруха, подсела к настежь раскинутому окну, створки которого едва не касались Полиной головы.
– А ну тебя, Полька, к коням со своими жалобами. Сыграла б чего распотешного! Да и посматривала б, прядёшь чё. Прядёшь же нитки, как куриные лытки. Больно натолсто.
Поля оглядела пряжу на веретёшке.
– Разве это толсто?.. А истонко прясти – долго ждать, мамо. Ничё, сойдёт. На зимние носки пустю, большь тепла будут собирать.
– Ну разве что на зимние… И что, ни одной охохошки не знаешь?
– Почему не знать?.. – Поля зарделась. – Знаю. Тилько як его петь Вам?
– Да как можешь.
Разговор разбудил мальчика. Он неподвижно уставился на мать и не выказывал никаких чувств. Как бабка ни трясла ему рукой, как ни строила рожицу, упрямо не поворачивал к ней голову. Старуху это задело. Она дразняще выставила язык, высунулась до пояса и едва не выпала из окна. Это геройство, казалось, мальчик заметил, оценил любовь к себе бабки. Улыбнулся в награду.
– Так бы и давно-о надо, Никитыч! – поощрила бабка улыбку и позвала его к себе высохшими, тонкими пальчиками. – Ну пойдёшь к бабушке на ручки? За это я скажу тебе сказку про козу-лупоглазку, скажу другую про козу голубую…
За обещанием сказка не последовала. Мальчик же, похоже, лежал и ждал именно обещанной сказки. Бабка все уже свои сказки забыла, и Поля не знала. С благодарной теплотой старуха заглянула мальчику в синие глаза с отливом, неожиданно ударила припевку:
– Мне сказали про милова —
Он черненький, маленький.
А я вышла посмотрела —
Как цветочек аленький.
Мальчик счастливо дёрнул пухлой ручонкой, обрадовался бабкиной выходке и разом потянул кверху обе ручонки. Подымите!
Поля поставила его на ножки, поддерживает широкой ладонью за спину. Он колыхался в кошелке, готовый упасть. Но ещё больше, наверное, зуделось ему выстоять и услышать, как мать отвечает:
– Пойду плясать,
Доски гнутся.
Сарафан короток,
Ребята смеются.
Бабка как-то лихостно скакнула в окне с ноги на ногу, в приплясе ткнула в сосредоточенно сопевшего внука рукой с платком.
– Поиграть хотца,
Сплясать хотца.
Сбоку душка стоит,
Поплясать не велит.
И тут же дальше:
– Эх, что стоишь
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь.
Поля повязала мальчику серую ленточку на левую руку. Разгладила эти часики.
– Мой мил при часах,
А я при калошах.
Не любила я плохих,
Любила хороших.
Хвастливой оказалась и бабка:
– У маво у милова
Четыре рубашки,
Еще пояс да ремень.
Пирменяя кажный день.
Поля посадила мальчика на ладонь, гордовито подала в окно бабке. Полюбуйся, свекровушка!
Старуха наклонилась принять кроху – Поля отступила на шаг. Держала сына на вытянутых кверху руках, покачивалась, светло выхвалялась:
– У нашего у нашки
На щеках-то ямки.
Много денег у него,
Выди замуж за него.
Старуха приняла в окно мальчика, поцеловала в коленку и, прижав к груди, загудела протяжно, просительно:
– Проводи-и меня, Митрю-у-ушка-а,
Ночь темна-а, одной мне жутко.
Уставилась в глазики, затормошила:
– Никитч, ну доложь как на духу, что ты думаешь про нас? Вот, скажешь, две здоровые долбёжки в детство упали и выкачуриваются. И спробуй уведай, кто здеся взрослый, а кто писун. Не-е… Что малое, что старое. Слава одна, бзыки одни. Не так? Докладай…
Мальчик без доклада захныкал. Запросился к матери.
– Уходи, уходи. Не восплачу! Мне и так мои косарики покажут все двадцать четыре света в одном окошке. Солнце на обеде уже. А я, старая кошёлка, ещё не варила, не пекла. Всё с тобой чичкаюсь. Вот-вот набегут мои подобедать. Что кусать-то станут? Ою, напрядуть на кривую веретену!
В панике бабка сунула в окно мальчика.
– На-кась, Полька, Митрофания Никитча назад. Всё! Побёгла на поклон к чумазым чугункам. А ты… Скоро жнива… Подмети в клуне… Осторожней там. Намедни видала, как черти поблизу носили какого-то запорожца.[41 - Запорожец (здесь) – непрошеный гость.]
– А-а!.. Поносили да и бросили. Унесли куда…
Подмести в клуне тоже дело.
И Поля мела, посадив мальчика у двери на серый платок, раскинутый в теньке у двери. Вдруг то ли ей чудится, что слышит, то ли в самом деле слышит: зовёт её кто-то. Вслушалась. Голос из знакомых. Выскочила из любопытства за клуню. Серёга скок со вчерашних дрожек, подаёт поверх плетня узелок.
Щонидилиньки квитчана,[40 - Квитчана – украшенная цветами.]
За один вичорок потиряна».
Пела она скорей себе, а не сыну. Сын уже спал в колыбельке, в обычной плетёной ивовой корзинке. После самого дома она была самая старшая, вторая в доме по старшинству. Её не раз поправляли, подплетали новыми прутьями, и это не вредило её особому почёту, потому что в ней начинали расти все, кто жил и живёт ныне в доме. Случалось, старик вгорячах выкидывал её, дряхлую, за клуню. Проходил какой час, он летел за ту же клуню, проклинал своё легкомыслие. «Да в ней же весь наш род вырос и не нужна? Помешала?» Снова поднимал её на чердак, в тёплышко, откуда её ещё раза три выбрасывали и скоро возвращали. И вот дождалась старенькая колыбелька нового жильца. Митенька сладко спал в ней. Подрагивали розовенькие ноздри, шевелились губки. Они пахли черносливом.
Услышала пенье свекруха, подсела к настежь раскинутому окну, створки которого едва не касались Полиной головы.
– А ну тебя, Полька, к коням со своими жалобами. Сыграла б чего распотешного! Да и посматривала б, прядёшь чё. Прядёшь же нитки, как куриные лытки. Больно натолсто.
Поля оглядела пряжу на веретёшке.
– Разве это толсто?.. А истонко прясти – долго ждать, мамо. Ничё, сойдёт. На зимние носки пустю, большь тепла будут собирать.
– Ну разве что на зимние… И что, ни одной охохошки не знаешь?
– Почему не знать?.. – Поля зарделась. – Знаю. Тилько як его петь Вам?
– Да как можешь.
Разговор разбудил мальчика. Он неподвижно уставился на мать и не выказывал никаких чувств. Как бабка ни трясла ему рукой, как ни строила рожицу, упрямо не поворачивал к ней голову. Старуху это задело. Она дразняще выставила язык, высунулась до пояса и едва не выпала из окна. Это геройство, казалось, мальчик заметил, оценил любовь к себе бабки. Улыбнулся в награду.
– Так бы и давно-о надо, Никитыч! – поощрила бабка улыбку и позвала его к себе высохшими, тонкими пальчиками. – Ну пойдёшь к бабушке на ручки? За это я скажу тебе сказку про козу-лупоглазку, скажу другую про козу голубую…
За обещанием сказка не последовала. Мальчик же, похоже, лежал и ждал именно обещанной сказки. Бабка все уже свои сказки забыла, и Поля не знала. С благодарной теплотой старуха заглянула мальчику в синие глаза с отливом, неожиданно ударила припевку:
– Мне сказали про милова —
Он черненький, маленький.
А я вышла посмотрела —
Как цветочек аленький.
Мальчик счастливо дёрнул пухлой ручонкой, обрадовался бабкиной выходке и разом потянул кверху обе ручонки. Подымите!
Поля поставила его на ножки, поддерживает широкой ладонью за спину. Он колыхался в кошелке, готовый упасть. Но ещё больше, наверное, зуделось ему выстоять и услышать, как мать отвечает:
– Пойду плясать,
Доски гнутся.
Сарафан короток,
Ребята смеются.
Бабка как-то лихостно скакнула в окне с ноги на ногу, в приплясе ткнула в сосредоточенно сопевшего внука рукой с платком.
– Поиграть хотца,
Сплясать хотца.
Сбоку душка стоит,
Поплясать не велит.
И тут же дальше:
– Эх, что стоишь
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь.
Поля повязала мальчику серую ленточку на левую руку. Разгладила эти часики.
– Мой мил при часах,
А я при калошах.
Не любила я плохих,
Любила хороших.
Хвастливой оказалась и бабка:
– У маво у милова
Четыре рубашки,
Еще пояс да ремень.
Пирменяя кажный день.
Поля посадила мальчика на ладонь, гордовито подала в окно бабке. Полюбуйся, свекровушка!
Старуха наклонилась принять кроху – Поля отступила на шаг. Держала сына на вытянутых кверху руках, покачивалась, светло выхвалялась:
– У нашего у нашки
На щеках-то ямки.
Много денег у него,
Выди замуж за него.
Старуха приняла в окно мальчика, поцеловала в коленку и, прижав к груди, загудела протяжно, просительно:
– Проводи-и меня, Митрю-у-ушка-а,
Ночь темна-а, одной мне жутко.
Уставилась в глазики, затормошила:
– Никитч, ну доложь как на духу, что ты думаешь про нас? Вот, скажешь, две здоровые долбёжки в детство упали и выкачуриваются. И спробуй уведай, кто здеся взрослый, а кто писун. Не-е… Что малое, что старое. Слава одна, бзыки одни. Не так? Докладай…
Мальчик без доклада захныкал. Запросился к матери.
– Уходи, уходи. Не восплачу! Мне и так мои косарики покажут все двадцать четыре света в одном окошке. Солнце на обеде уже. А я, старая кошёлка, ещё не варила, не пекла. Всё с тобой чичкаюсь. Вот-вот набегут мои подобедать. Что кусать-то станут? Ою, напрядуть на кривую веретену!
В панике бабка сунула в окно мальчика.
– На-кась, Полька, Митрофания Никитча назад. Всё! Побёгла на поклон к чумазым чугункам. А ты… Скоро жнива… Подмети в клуне… Осторожней там. Намедни видала, как черти поблизу носили какого-то запорожца.[41 - Запорожец (здесь) – непрошеный гость.]
– А-а!.. Поносили да и бросили. Унесли куда…
Подмести в клуне тоже дело.
И Поля мела, посадив мальчика у двери на серый платок, раскинутый в теньке у двери. Вдруг то ли ей чудится, что слышит, то ли в самом деле слышит: зовёт её кто-то. Вслушалась. Голос из знакомых. Выскочила из любопытства за клуню. Серёга скок со вчерашних дрожек, подаёт поверх плетня узелок.