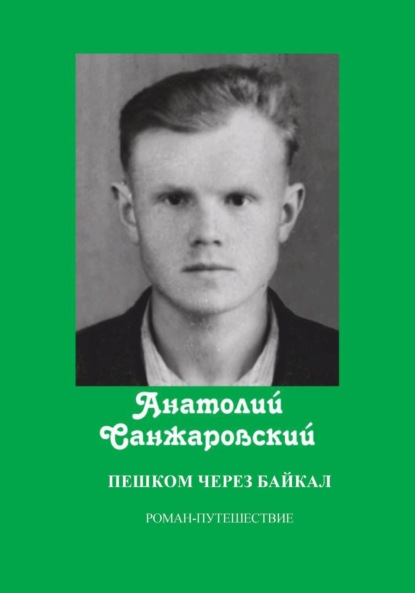По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ту газету знакомый почтальон, с которым Генка водил прочную дружбу, первому Генке принёс похвалиться. Весь наличный тираж Генка готов был конфисковать, лишь бы ни одна живая душа в поселке не прочитала.
Переморгал Генка свой «подвиг», не помер и всё покатилось старым колесом. Рукипишутголовыотдыхают пописывали, поселок посмеивался.
И вот однажды общее собрание дало Генке раскомандировку. Ты редактор стенгазеты? Ты. Отныне рисуй не только в свою стенновку, а всё наистоящее засылай в район, пускай там имеют всё из первых верных рук да не потешают.
Хотел было завозражать: а почему именно я пиши? Или это я у Бога в бане веник украл? Так, извините, не крал. Ни в чём не виноват!
Однако зубаститься раздумал, пошёл слать. Вроде что-то выплясывается, раз печатают. Всякая язва в поселке попалась в тоску: кончился районный юмор.
Шире – дале.
Чувствует Генка, грамотёшки недохват, пора копить ума. Проломился по конкурсу в университет. Заочник. До защиты ещё годы и годы, а он тихомолком, без спеха сгребает до кучи материалишко – загодя выбрал дипломную "Журналист на Баме".
Уж кого-кого, а пишущей братии тут до дуру, как жеманнных вертушек на демонстрационной площадке в модном доме. Живой конвейер. Одни уезжают, другие приезжают. Держи в виду, наблюдай за мастеровитыми в работе.
Вот вышла чья-то статья. Генка сопоставляет, что есть в жизни, что выплеснулось на газетный лист, что осталось за его обрезом, почему осталось.
А ну кто со стороны напиши про то, о чём уже писал сам Генка – о, такой классике у заочника своя цена! По косточкам неделями раскладывает, без белой зависти всё маракует, всё докапывается, чем же сильно перо столичного иль областного спеца и где его, Генкины, минусы зарыты. Сравнивает. Выворачивается столькое поучительное! Полный тебе университет без отрыва от Бама.
По природе своей Генка наполеонишка. Надалеко знает, чего хочет, а чего не хочет. А не хочет он набольше всего потеряться в жизни без известий.
Конечно, и книжки, и фильмы есть про журналистов, но всё то, считает Генка, разухабистые посказульки об этаких розовых бесшабашных херувимчиках. Всё-то им дозволено, всё-то им по плечу, всё-то они могут, все-то они знают, везде-то они в героях. Впору руби скульптуру. Сажай на белого коня, шашку в руку!
Ложь всё то!
Да разве херувимы эти не плачут от обид?
Да разве не у этих ли верченых честняг хлеб с горечью?
Да разве это у них гарцуют на сберкнижках жиреющие мильоны?
Да разве не их ли сострадающее сердце стихает на десять лет раньше, нежели у всех у прочих?
Велит душа написать праведную книгу о журналистах…
Бам перепахал, перекроил, на свой лад переплёл его. Что было негодное сшелушил, соскрёб. Ясное, доброе, чистое легло прочно, закрепло в нём, уядрело, уякорилось.
Вырос, выработался из мальчика мужчина.
Но даже новые крутые годы бамовские не развели его с романтикой. Как был неисправимый романтик высшего класса, да так и остался: не видеть мир в походах – не жить!
Уж извеку ведётся, во все времена человеку был и будет нужен подвиг – зов его неугасим, вековечен, – пускай и ма-а-аахонький, про который один лишь ты и знаешь, но подвиг, иначе "из жизни уходит соль".
12
Двум шпагам в одних ножнах не ужиться.
Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет.
И снова небо задёрнули огрузлые тучи; разом смерклось густо, круто, будто и впрямь свет повесился.
И снова лупил снегохлёст да такой, что дальше локтя ни зги не видать. На Байкале по семи погод на часу.
Мы побрели по компасу.
Из пурги, из этого бешеного, слепого окаянства, выпал, вывалился к нам забитый снегом Борис.
– Ну, чалдоны желтопузые, как вы тут? Слеза в глазу не стынет? Живы?
– Живы-то живы – отвечаю, – да нет ничего тяжелей тащить пустой желудок.
– У-у! Это мне только на руку. – Рывком спины Борис подтолкнул на закорках брюхатый, готовый лопнуть, рюкзак.
Я помог ему снять. Достал свой.
Дуло, словно в трубу.
Под стон белого ветра завертелась, забегала по кругу глубокая термосная крышка. Хлеб, колбаса. Горячий чай с лимоном. Да придумай что вкусней средь Байкала!
– Мужики, чего торчим кольями вкруг рюкзака?.. Как в стоячем кафе… – Я поискал, где б присесть.
– Не рассаживаться, – бросил на меня Генка глаза. – А то кто будет подымать?
Я посмотрел на него сквозь ленивую злость.
– Вообще-то не лошади… стоя жевать…
– Прихватывал бы князев стол, кресло…
После богатецкой еды – теперь можно с голодным повоевать! – с силой кинул я разом полегчавший рюкзачишко себе на плечо.
Борис решительно снял, молча впихнул к себе.
Какое-то время, будто для разгона, Борис плавко, влюбовинку вышагивает вместе с нами. Потом потихоньку отламывается вперёд.
Уводит, удёргивает за собой и метель.
И солнцу, что скоро проглянуло, и глухому выстрелу вдалях Генка шально орёт евтушенковское:
– Мой Байкал – громобой,
у тебя я всегда на причале.
Моих предков с тобой
кандалы обручали.
Расчистился горизонт.
Завиднелись впереди горы!
Горы!
Переморгал Генка свой «подвиг», не помер и всё покатилось старым колесом. Рукипишутголовыотдыхают пописывали, поселок посмеивался.
И вот однажды общее собрание дало Генке раскомандировку. Ты редактор стенгазеты? Ты. Отныне рисуй не только в свою стенновку, а всё наистоящее засылай в район, пускай там имеют всё из первых верных рук да не потешают.
Хотел было завозражать: а почему именно я пиши? Или это я у Бога в бане веник украл? Так, извините, не крал. Ни в чём не виноват!
Однако зубаститься раздумал, пошёл слать. Вроде что-то выплясывается, раз печатают. Всякая язва в поселке попалась в тоску: кончился районный юмор.
Шире – дале.
Чувствует Генка, грамотёшки недохват, пора копить ума. Проломился по конкурсу в университет. Заочник. До защиты ещё годы и годы, а он тихомолком, без спеха сгребает до кучи материалишко – загодя выбрал дипломную "Журналист на Баме".
Уж кого-кого, а пишущей братии тут до дуру, как жеманнных вертушек на демонстрационной площадке в модном доме. Живой конвейер. Одни уезжают, другие приезжают. Держи в виду, наблюдай за мастеровитыми в работе.
Вот вышла чья-то статья. Генка сопоставляет, что есть в жизни, что выплеснулось на газетный лист, что осталось за его обрезом, почему осталось.
А ну кто со стороны напиши про то, о чём уже писал сам Генка – о, такой классике у заочника своя цена! По косточкам неделями раскладывает, без белой зависти всё маракует, всё докапывается, чем же сильно перо столичного иль областного спеца и где его, Генкины, минусы зарыты. Сравнивает. Выворачивается столькое поучительное! Полный тебе университет без отрыва от Бама.
По природе своей Генка наполеонишка. Надалеко знает, чего хочет, а чего не хочет. А не хочет он набольше всего потеряться в жизни без известий.
Конечно, и книжки, и фильмы есть про журналистов, но всё то, считает Генка, разухабистые посказульки об этаких розовых бесшабашных херувимчиках. Всё-то им дозволено, всё-то им по плечу, всё-то они могут, все-то они знают, везде-то они в героях. Впору руби скульптуру. Сажай на белого коня, шашку в руку!
Ложь всё то!
Да разве херувимы эти не плачут от обид?
Да разве не у этих ли верченых честняг хлеб с горечью?
Да разве это у них гарцуют на сберкнижках жиреющие мильоны?
Да разве не их ли сострадающее сердце стихает на десять лет раньше, нежели у всех у прочих?
Велит душа написать праведную книгу о журналистах…
Бам перепахал, перекроил, на свой лад переплёл его. Что было негодное сшелушил, соскрёб. Ясное, доброе, чистое легло прочно, закрепло в нём, уядрело, уякорилось.
Вырос, выработался из мальчика мужчина.
Но даже новые крутые годы бамовские не развели его с романтикой. Как был неисправимый романтик высшего класса, да так и остался: не видеть мир в походах – не жить!
Уж извеку ведётся, во все времена человеку был и будет нужен подвиг – зов его неугасим, вековечен, – пускай и ма-а-аахонький, про который один лишь ты и знаешь, но подвиг, иначе "из жизни уходит соль".
12
Двум шпагам в одних ножнах не ужиться.
Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет.
И снова небо задёрнули огрузлые тучи; разом смерклось густо, круто, будто и впрямь свет повесился.
И снова лупил снегохлёст да такой, что дальше локтя ни зги не видать. На Байкале по семи погод на часу.
Мы побрели по компасу.
Из пурги, из этого бешеного, слепого окаянства, выпал, вывалился к нам забитый снегом Борис.
– Ну, чалдоны желтопузые, как вы тут? Слеза в глазу не стынет? Живы?
– Живы-то живы – отвечаю, – да нет ничего тяжелей тащить пустой желудок.
– У-у! Это мне только на руку. – Рывком спины Борис подтолкнул на закорках брюхатый, готовый лопнуть, рюкзак.
Я помог ему снять. Достал свой.
Дуло, словно в трубу.
Под стон белого ветра завертелась, забегала по кругу глубокая термосная крышка. Хлеб, колбаса. Горячий чай с лимоном. Да придумай что вкусней средь Байкала!
– Мужики, чего торчим кольями вкруг рюкзака?.. Как в стоячем кафе… – Я поискал, где б присесть.
– Не рассаживаться, – бросил на меня Генка глаза. – А то кто будет подымать?
Я посмотрел на него сквозь ленивую злость.
– Вообще-то не лошади… стоя жевать…
– Прихватывал бы князев стол, кресло…
После богатецкой еды – теперь можно с голодным повоевать! – с силой кинул я разом полегчавший рюкзачишко себе на плечо.
Борис решительно снял, молча впихнул к себе.
Какое-то время, будто для разгона, Борис плавко, влюбовинку вышагивает вместе с нами. Потом потихоньку отламывается вперёд.
Уводит, удёргивает за собой и метель.
И солнцу, что скоро проглянуло, и глухому выстрелу вдалях Генка шально орёт евтушенковское:
– Мой Байкал – громобой,
у тебя я всегда на причале.
Моих предков с тобой
кандалы обручали.
Расчистился горизонт.
Завиднелись впереди горы!
Горы!