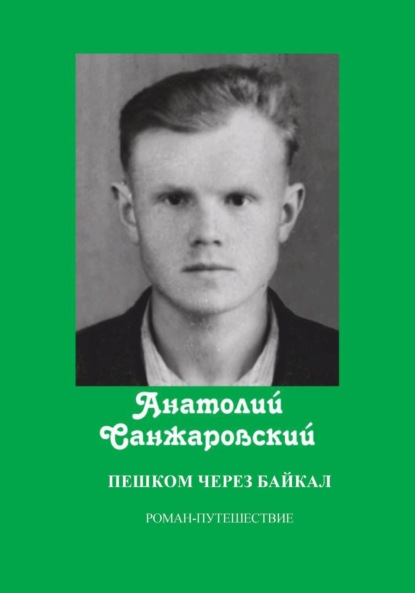По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Оно, конечно, все не пьют до поднесеньева дня, – выставил я зубы.
Генка не пояснял своего запрета.
Я и выреши, что запрещает он лишь потому, что всякий начальник на то и начальник, чтоб хоть что-то да запрещать. Надо же оказать свою власть!
И я продолжал расшнуровывать рюкзак. На конце концов, чай мой. Пью, когда хочу!
С подозрительной вежливостью Генка попросил у меня рюкзак.
Я не мог быть невежливым.
Посмеиваюсь в душе, подаю с поклоном. Мол, не потащишь сам, отдашь назад.
Генка же спокойно сунул его в свой громадный, наполовину пустой рюкзачище, вскинул на спину и молча вперёд.
Только тут я заметил, пёр он два тяжеленных рюкзака.
Мне стало не по себе.
– Ген, а давай помогу. Отдай один… где мой…
Он ничего не ответил.
Через какие-то мелкие минуты к нам вернулся рослый парень, кто называл Генку потолкунчиком, бросил ему короткое "Помогу". Сгрёб один, именно тот рюкзак, где был мой, и пошёл рвать версты.
– Ге-ен! Остановите его, – крикнул я.
– Боря! Зверев!
Парень не остановился. Лишь оглянулся, упёрся крупным сильным подбородком в плечо.
– Что сказать этому Быстроногому Оленю и по совместительству моему краснокожему брату и другу? – спросил меня Генка.
Неловко мне было сознаться, что я все-таки до смерти хочу пить. Я махнул Борису: беги.
Какое-то время мы с Генкой не могли найти речей, шли молча.
Он больше не отрывался, скользил рядом и с виной в глазах поглядывал на меня.
Я первый не вынес молчанки. Спросил:
– Так почему ж нельзя?
– Ну-у, хоть бы… как само враз… После удаления аппендицита не резон тут же кидаться на бублики…
Я вздрогнул.
Лет семь назад я был в Батуме.
Боль сбивала с ума, вертела по-страшному.
Боль переломила меня не надвое ли. Всё время я держался за живот, будто боялся его ненароком потерять, и умученно семенил боком.
Целых три дня метался я в горячке по Батуму. Только потом наладился домой, в Москву, когда сделал по командировке всё.
В Белореченске, в сонном кубанском городишке, меня сняли с поезда.
Ласковая, славная норовом нянечка сцепила в нитку тонкие старые губы, принялась в больничном коридоре скоблить мне грудь сухой безопаской. Выкладывала бабуся все силушки.
– Вам желудок будуть ризаты, – шепнула по секрету.
– Не будут.
Я положил руки на грудь крест-наперекрест.
– Иль вы вышли из толка? – осерчав, всё так же шепотливо отчитывала ласковая нянюшка. – Доведись до мене, я дорого не запросю. Напрямо зараз пиду пожалюсь самому наиглавному.
– И чем быстрей, тем лучше.
– Добре. Я вжэ пийшла, парубоче. Вжэ пийшла.
И действительно пошла.
В скорых минутах залетает хирург, всполошённая снеговая гора.
От большого, великанистого его халата в коридоре враз посветлело.
– Больной! Вы что же, и на нитку нам не верите? Почему без митинга не даёте брить грудь? У вас язва желудка!
– Доктор, извините, пожалуйста, но зачем вы наговариваете на мой родной желудок? И разу ж не болел! Гвозди кривые глотал – прямые выскакивали! Что хотите, а желудок не дам почём зря раскроить.
– Совсем врачи вышли у вас из веры…
– Я, доктор, от себя такого не слышал… Пока это вы сами на себя наговариваете.
Хмыкнул доктор.
Добросовестно упёрся мне тугим пальцем в живот, резко отнял – свет выкатился из глаз моих.
– Куда боль пошла?
– В низ правого бока.
Он нажимал ещё и ещё – понравилась дяде игрушка…
Кончилось всё тем, что нянечка, уже ничего не говоря по секрету, вовсе другое выголила место внизу.
У меня убрали, как сказал доктор, страшно некрасивый, переспелый аппендицит.
Генка не пояснял своего запрета.
Я и выреши, что запрещает он лишь потому, что всякий начальник на то и начальник, чтоб хоть что-то да запрещать. Надо же оказать свою власть!
И я продолжал расшнуровывать рюкзак. На конце концов, чай мой. Пью, когда хочу!
С подозрительной вежливостью Генка попросил у меня рюкзак.
Я не мог быть невежливым.
Посмеиваюсь в душе, подаю с поклоном. Мол, не потащишь сам, отдашь назад.
Генка же спокойно сунул его в свой громадный, наполовину пустой рюкзачище, вскинул на спину и молча вперёд.
Только тут я заметил, пёр он два тяжеленных рюкзака.
Мне стало не по себе.
– Ген, а давай помогу. Отдай один… где мой…
Он ничего не ответил.
Через какие-то мелкие минуты к нам вернулся рослый парень, кто называл Генку потолкунчиком, бросил ему короткое "Помогу". Сгрёб один, именно тот рюкзак, где был мой, и пошёл рвать версты.
– Ге-ен! Остановите его, – крикнул я.
– Боря! Зверев!
Парень не остановился. Лишь оглянулся, упёрся крупным сильным подбородком в плечо.
– Что сказать этому Быстроногому Оленю и по совместительству моему краснокожему брату и другу? – спросил меня Генка.
Неловко мне было сознаться, что я все-таки до смерти хочу пить. Я махнул Борису: беги.
Какое-то время мы с Генкой не могли найти речей, шли молча.
Он больше не отрывался, скользил рядом и с виной в глазах поглядывал на меня.
Я первый не вынес молчанки. Спросил:
– Так почему ж нельзя?
– Ну-у, хоть бы… как само враз… После удаления аппендицита не резон тут же кидаться на бублики…
Я вздрогнул.
Лет семь назад я был в Батуме.
Боль сбивала с ума, вертела по-страшному.
Боль переломила меня не надвое ли. Всё время я держался за живот, будто боялся его ненароком потерять, и умученно семенил боком.
Целых три дня метался я в горячке по Батуму. Только потом наладился домой, в Москву, когда сделал по командировке всё.
В Белореченске, в сонном кубанском городишке, меня сняли с поезда.
Ласковая, славная норовом нянечка сцепила в нитку тонкие старые губы, принялась в больничном коридоре скоблить мне грудь сухой безопаской. Выкладывала бабуся все силушки.
– Вам желудок будуть ризаты, – шепнула по секрету.
– Не будут.
Я положил руки на грудь крест-наперекрест.
– Иль вы вышли из толка? – осерчав, всё так же шепотливо отчитывала ласковая нянюшка. – Доведись до мене, я дорого не запросю. Напрямо зараз пиду пожалюсь самому наиглавному.
– И чем быстрей, тем лучше.
– Добре. Я вжэ пийшла, парубоче. Вжэ пийшла.
И действительно пошла.
В скорых минутах залетает хирург, всполошённая снеговая гора.
От большого, великанистого его халата в коридоре враз посветлело.
– Больной! Вы что же, и на нитку нам не верите? Почему без митинга не даёте брить грудь? У вас язва желудка!
– Доктор, извините, пожалуйста, но зачем вы наговариваете на мой родной желудок? И разу ж не болел! Гвозди кривые глотал – прямые выскакивали! Что хотите, а желудок не дам почём зря раскроить.
– Совсем врачи вышли у вас из веры…
– Я, доктор, от себя такого не слышал… Пока это вы сами на себя наговариваете.
Хмыкнул доктор.
Добросовестно упёрся мне тугим пальцем в живот, резко отнял – свет выкатился из глаз моих.
– Куда боль пошла?
– В низ правого бока.
Он нажимал ещё и ещё – понравилась дяде игрушка…
Кончилось всё тем, что нянечка, уже ничего не говоря по секрету, вовсе другое выголила место внизу.
У меня убрали, как сказал доктор, страшно некрасивый, переспелый аппендицит.