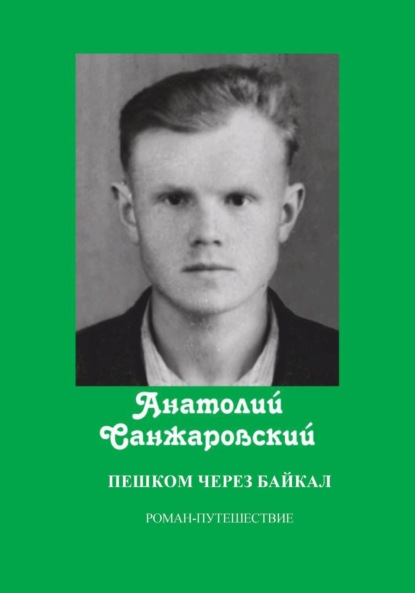По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Следом за мной прооперировали "на ту же тему" ещё одного. А под утро, на первом свету, едва начинало синим мазать окна в палате, он умер от спайки кишок: ночью умял все бублики, что впотаях приплавила жёнка.
Дня три-четыре я толком и разу не ел, совсем без охоты к тому всё было.
А тут потянуло, позвало подкрепиться как следует. Мне ж помимо водички ничего путного не давали.
Дом далеко, передачи носить некому.
Как я просил хоть один бублик сбить охотку, а казачок и пожадничай…
Вспомнил я эту историю – разом утянуло, забрало жажду.
С виноватой благодарностью заглядываю Генке в глаза, со смешками подкашливаю, как мышь в норе.
– Что подкашливаете? Богатую любите?
– Очень богатую! Душой, лицом, станом… Одно слово, отдай всё и мало! Но сейчас!.. Будь у меня шляпа, Гена, ей-бо, снял бы перед Вами.
Не знаю, чем я расположил его к себе, не знаю, чем я вошёл к нему в добрые, только кинул он широко рукой, сказал:
– А послушайте… Непутно получается у нас как-то… А давайте на ты. Ну чего выкать? Не дипломаты!
– Давай попробуем, – потянулся я к согласию.
– Ну так скажи, куда ближе?
– Само собой, к Листвянке! Сколь уж пропёрли… И потом, не обучен я рачиться на попятный двор.
– А до переднего двора… Сердчишко-то как? Не зачастит?
– Да терапевт вроде пел, что оно у меня, как мотор у новенького ТУ сто с лишним.
– Ну-у, тогда ты, орёлик, стопроцентно наш! Что ж я, леший- красноплеший, сбиваюсь с ума?.. Вот что… Кончай бежать, кончай рвать с огня. Иди спокойно. Забудь, что все ушли. Иди пока один. Я слетаю на передовую к своим, возьму на всякий случай компас. Тогда сама дьяволова пурга нам не в страх. Точка. Абзац.
10
Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Солнышко на всех ровно светит.
Потихоньку выведрило, разгулялась понемногу погода.
Милостиво расступились, раздёрнулись тучи. В сине оконце солнышко глянуло.
Возвращался Генка в солнечном уже кругу.
Круг стремительно раздавался, рос. Светополье накатывало широко, могуче. Рай шел…
Разом всё окрест вспыхнуло белым пламенем. Куда ни пусти взор – бело, так бело, так ярко, что ломит глаза.
Без защитных очков чистая беда. Чего доброго, снежную ещё слепоту наживешь.
Впервые на своём веку пожалел я, что отправился загорать, а нарочно не взял тёмные очки: не поверил в марте сибирскому солнцу.
На разостланные вокруг богатые снега не взглянешь в полные глаза. Будто во спасение подвернулась полянка чистого, без снега сверху, льда.
Окаянную его черноту сердце не терпит, затолклось в непокое.
Тишком да бочком подбился к острому кончику схожей с саблей белой намети, стал как присох, а пустить шаг дале, ступить на сам лёд нет меня. Тонколёдица до такой ясности прозрачна, что, кажется, стань – ухнешь в эту в чёрную дурноверть.
И всё ж сбился я силами – стал. А став, почувствовал себя не прочней мальца, пробующего ходить; и причудилось, плотный молодой голос просит из детства: дубо?к стоять, дубок!
Ясно расслышал я весёлое мамино повеление держаться прямотело, не падать – разом крутнулся на голос, внаклон покачнулся, растаращил руки…
Устоять я устоял. Но на видах моих никого не было. Никто не звал, никто ничего не хотел от меня.
Лёд не трещал, не ломился.
Твёрдо, крепко всё подо мной.
А на душе ненадежно, без ран душа болит.
Всё кажется, лёд в смерть тонок, всего-то какая плёнка, слабая, прозрачная, скорей, призрачная.
Ложусь. Так оно спокойней.
По книжкам, озеро самое чистое. Вода в нём, твердит поверье, целая – целебная, оживляющая, приворотная; кто ею умоется, на весь век останется тут жить. Сквозь толщь воды в охотку увидать постель-дно, подсмотреть, на чём оно, славное, лежит-отдыхает под одеялом из саженных льдов.
Но дальше носа глаза мои не берут.
Прямо напротив лица – звёздное скопище трещинок, пузырьков; на локоть переполз – уже лунный пейзаж, рядом – опрокинутая веретёшка с сорвавшимися с неё нитками белыми (к разу вывернулась из памяти загадка про веретено: "Пляшу по горнице с работою моею, чем больше верчусь, тем больше толстею"), дальше очёсок ком, мерклое личико прялки…
Ни дать ни взять к ледяной к пряхе в гости привернул.
И диво это Сударыня Природа наряжала всю-то зиму зимнюю.
Неожиданно где-то справа раздался невозможно большой силы звук, что напоминал тот, когда из гигантского лука пустить исполин стрелу.
Стрела пролетела не поверху – прошила подо мною, с глухим стоном разламывая лёд: и в ту и в ту стороны чёрно лилась трещина в полпальца, которой ещё мгновение назад не было.
Власть самосохранения подбросила меня. Во весь опор рванул я вперёд, туда, где в порядочном отдалении маячила изогнутая в скобку наша колонна; бежал я по натянутым ветром белым струям, что казались мне надёжней голого льда, а потому давали ему державу, как дают её обручи кадке; бежал пригибаясь – вой летящих там и там стрел, пушечная пальба гремели со всех сторон; каждый миг шёл в цене за последний.
Страхи мои, на счастье, жили не век, жили, куражились ровно до той минуты, покуда не вспомнилось слышанное-читанное про тайности тутошнего льда.
А описал первым эти тайности русский посол в Китае Николай Спафарий (по пути в Пекин он в 1675 году переехал Байкал):
”… а зимнею порою мерзнешь Байкал начинающе около Крещеньева дни, и стоит до мая месяцы около Николины дни, а лед живет в толщину по сажени и больше, и для того на нем ходят зимнею порою саньми и нартами, однако до зело страшно, для того что море отдыхает и разделяется надвое и учиняются щели сажени в ширину по три и больше, а вода в них не проливается по льду, и вскоре опять сойдется вместе с великим шумом и громом, и в том месте учинится будто вал ледяной; и зимнею порою везде по Байкалу живет под ледом шум и гром великой, будто из пушек бьет (не ведущим страх великой), наипаче меж острова Ольхона и меж Святого Носа, где пучина большая”.
11
Дня три-четыре я толком и разу не ел, совсем без охоты к тому всё было.
А тут потянуло, позвало подкрепиться как следует. Мне ж помимо водички ничего путного не давали.
Дом далеко, передачи носить некому.
Как я просил хоть один бублик сбить охотку, а казачок и пожадничай…
Вспомнил я эту историю – разом утянуло, забрало жажду.
С виноватой благодарностью заглядываю Генке в глаза, со смешками подкашливаю, как мышь в норе.
– Что подкашливаете? Богатую любите?
– Очень богатую! Душой, лицом, станом… Одно слово, отдай всё и мало! Но сейчас!.. Будь у меня шляпа, Гена, ей-бо, снял бы перед Вами.
Не знаю, чем я расположил его к себе, не знаю, чем я вошёл к нему в добрые, только кинул он широко рукой, сказал:
– А послушайте… Непутно получается у нас как-то… А давайте на ты. Ну чего выкать? Не дипломаты!
– Давай попробуем, – потянулся я к согласию.
– Ну так скажи, куда ближе?
– Само собой, к Листвянке! Сколь уж пропёрли… И потом, не обучен я рачиться на попятный двор.
– А до переднего двора… Сердчишко-то как? Не зачастит?
– Да терапевт вроде пел, что оно у меня, как мотор у новенького ТУ сто с лишним.
– Ну-у, тогда ты, орёлик, стопроцентно наш! Что ж я, леший- красноплеший, сбиваюсь с ума?.. Вот что… Кончай бежать, кончай рвать с огня. Иди спокойно. Забудь, что все ушли. Иди пока один. Я слетаю на передовую к своим, возьму на всякий случай компас. Тогда сама дьяволова пурга нам не в страх. Точка. Абзац.
10
Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Солнышко на всех ровно светит.
Потихоньку выведрило, разгулялась понемногу погода.
Милостиво расступились, раздёрнулись тучи. В сине оконце солнышко глянуло.
Возвращался Генка в солнечном уже кругу.
Круг стремительно раздавался, рос. Светополье накатывало широко, могуче. Рай шел…
Разом всё окрест вспыхнуло белым пламенем. Куда ни пусти взор – бело, так бело, так ярко, что ломит глаза.
Без защитных очков чистая беда. Чего доброго, снежную ещё слепоту наживешь.
Впервые на своём веку пожалел я, что отправился загорать, а нарочно не взял тёмные очки: не поверил в марте сибирскому солнцу.
На разостланные вокруг богатые снега не взглянешь в полные глаза. Будто во спасение подвернулась полянка чистого, без снега сверху, льда.
Окаянную его черноту сердце не терпит, затолклось в непокое.
Тишком да бочком подбился к острому кончику схожей с саблей белой намети, стал как присох, а пустить шаг дале, ступить на сам лёд нет меня. Тонколёдица до такой ясности прозрачна, что, кажется, стань – ухнешь в эту в чёрную дурноверть.
И всё ж сбился я силами – стал. А став, почувствовал себя не прочней мальца, пробующего ходить; и причудилось, плотный молодой голос просит из детства: дубо?к стоять, дубок!
Ясно расслышал я весёлое мамино повеление держаться прямотело, не падать – разом крутнулся на голос, внаклон покачнулся, растаращил руки…
Устоять я устоял. Но на видах моих никого не было. Никто не звал, никто ничего не хотел от меня.
Лёд не трещал, не ломился.
Твёрдо, крепко всё подо мной.
А на душе ненадежно, без ран душа болит.
Всё кажется, лёд в смерть тонок, всего-то какая плёнка, слабая, прозрачная, скорей, призрачная.
Ложусь. Так оно спокойней.
По книжкам, озеро самое чистое. Вода в нём, твердит поверье, целая – целебная, оживляющая, приворотная; кто ею умоется, на весь век останется тут жить. Сквозь толщь воды в охотку увидать постель-дно, подсмотреть, на чём оно, славное, лежит-отдыхает под одеялом из саженных льдов.
Но дальше носа глаза мои не берут.
Прямо напротив лица – звёздное скопище трещинок, пузырьков; на локоть переполз – уже лунный пейзаж, рядом – опрокинутая веретёшка с сорвавшимися с неё нитками белыми (к разу вывернулась из памяти загадка про веретено: "Пляшу по горнице с работою моею, чем больше верчусь, тем больше толстею"), дальше очёсок ком, мерклое личико прялки…
Ни дать ни взять к ледяной к пряхе в гости привернул.
И диво это Сударыня Природа наряжала всю-то зиму зимнюю.
Неожиданно где-то справа раздался невозможно большой силы звук, что напоминал тот, когда из гигантского лука пустить исполин стрелу.
Стрела пролетела не поверху – прошила подо мною, с глухим стоном разламывая лёд: и в ту и в ту стороны чёрно лилась трещина в полпальца, которой ещё мгновение назад не было.
Власть самосохранения подбросила меня. Во весь опор рванул я вперёд, туда, где в порядочном отдалении маячила изогнутая в скобку наша колонна; бежал я по натянутым ветром белым струям, что казались мне надёжней голого льда, а потому давали ему державу, как дают её обручи кадке; бежал пригибаясь – вой летящих там и там стрел, пушечная пальба гремели со всех сторон; каждый миг шёл в цене за последний.
Страхи мои, на счастье, жили не век, жили, куражились ровно до той минуты, покуда не вспомнилось слышанное-читанное про тайности тутошнего льда.
А описал первым эти тайности русский посол в Китае Николай Спафарий (по пути в Пекин он в 1675 году переехал Байкал):
”… а зимнею порою мерзнешь Байкал начинающе около Крещеньева дни, и стоит до мая месяцы около Николины дни, а лед живет в толщину по сажени и больше, и для того на нем ходят зимнею порою саньми и нартами, однако до зело страшно, для того что море отдыхает и разделяется надвое и учиняются щели сажени в ширину по три и больше, а вода в них не проливается по льду, и вскоре опять сойдется вместе с великим шумом и громом, и в том месте учинится будто вал ледяной; и зимнею порою везде по Байкалу живет под ледом шум и гром великой, будто из пушек бьет (не ведущим страх великой), наипаче меж острова Ольхона и меж Святого Носа, где пучина большая”.
11