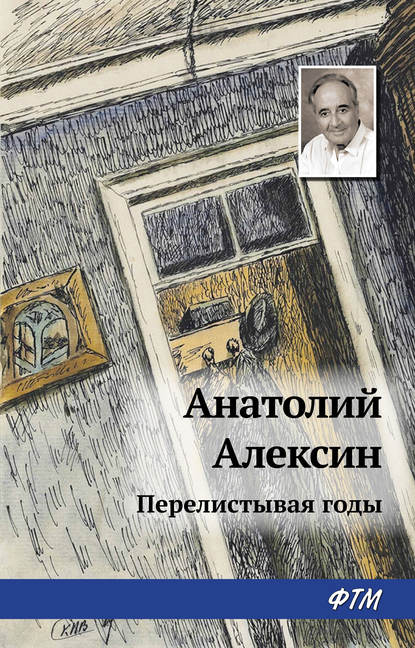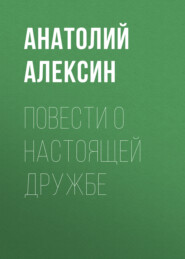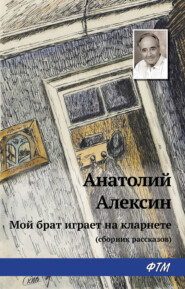По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды (опять однажды!) раздался звонок из Киева. В трубке моего московского телефона возник застенчивый, сбивчивый голос:
– Простите, что без спроса врываюсь… Я – Костя Ершов. Вы меня не знаете… Я кинорежиссер, хотя ни одной картины еще не снял. Но читал и перечитывал ваши повести в «Юности»: это мой любимый журнал. Выбирал, что бы экранизировать…
– И на чем остановились?
– На «Позднем ребенке». Повесть, мне сказали, получила в Америке премию… Но для меня дело не в премии, а в том, что это произведение мне очень нравится… Вы разрешите его экранизировать?
И вот примерно через полгода на телеэкранах появился киновариант моего «Позднего ребенка». Отца играл Василий Меркурьев (это была его последняя роль), маму – прекрасная актриса Антонина Максимова, одного из главных героев – молодой Куравлев, а другого – Адоскин… Закадровый текст мастерски читал любимый мною Вениамин Смехов. Редкое актерское содружество! А вот сам фильм мне не лег на душу… Костя Ершов предложил, как говорится, «свое прочтение», мне же дорого было то произведение, к которому я привык. Когда фильм «принимало начальство», самая ответственная в ту пору на телевидении дама принялась настоятельно шептать мне в ухо: «Неужто вы согласитесь с этим? Вас исказили… Невозможно узнать ваших героев! Что за самовольство такое?!» И я поддался… Фильму присвоили «вторую категорию», а не первую и тем паче – не высшую. Это было ударом по самолюбию, а одновременно и «по карману» начинающего режиссера. А я тот фильм (и Костю, значит, тоже!) не поддержал… Мог бы встать на защиту, но не встал. Или сделал это вяло, неубедительно. Нет, я не боялся начальства… А просто внутренне на сей раз с ним согласился.
Сейчас не могу без дрожи вспомнить побелевшее лицо Кости, и так-то болезненно-бледное.
– Вам… не понравилось? – еле слышно проговорил он. И я, обычно чересчур сговорчивый и уступчивый, неожиданно для самого себя ответил:
– Честно говоря, нет…
Но вдруг… после телепоказа мне позвонил Ираклий Андроников: «Поздравляю! Это новое слово в киноискусстве! Замечательный фильм…» «Вы в самом деле так думаете?» «А разве можно думать иначе?»
Вскоре позвонил мой друг-кинематографист: «Ты читал?!» «Что именно?»
– Восторженную статью Анатолия Эфроса про твой фильм! В «Искусстве кино» … Ну, знаешь, таких слов от Анатолия Васильевича дождаться нелегко! Он же предельно взыскателен. А здесь… Вот послушай: «Мы обычно смотрим телевизор рассеянно и урывками, а тут как сел, так и просидел до конца… Нарисовал Дега своих голубых танцовщиц, и хотя там нет ничего драматического, а только в разных позах стоят несколько балерин, но столько грации, и вкуса, и тонкости в этой картине, что оторваться невозможно. Так и здесь, в фильме, – просто сидят за столом несколько милых людей и беседуют, а тебе очень интересно, и ты увлечен, потому что все от начала до конца лирично – юмор мягкий, все красиво и точно… И все до мелочей это семью выражает… В воспоминаниях детства есть всегда легкая загадочность. К этой легкой задумчивости многие стремятся, когда ставят фильмы, но немногим это удается, потому что не так просто создать некую дымку воспоминаний. Тут нужна удивительная мера и нежность… И тогда действительно передается чувство детства и семьи… Мне почему-то вспомнилось при этом, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил, что человек обязательно должен в себе сохранить свое детство, и чем больше в нем этих воспоминаний остается – тем лучше».
В той прошлой жизни за телефон не платили в зависимости от продолжительности разговоров, – и мой друг долго еще читал и комментировал:
– Ты подумай: это пишет Анатолий Эфрос! И какие у него ассоциации: Достоевский, Дега…
Все эти ассоциации, конечно же, прежде всего относились к замечательному, как оказалось, кинорежиссеру Косте Ершову.
– Ты, конечно, поддержал уникальный режиссерский талант? – спросил, но ничуть не сомневался в моем утвердительном ответе восторженный друг.
– Нет, – растерянно ответил я. И положил трубку. «Как же я не увидел? Не почувствовал? Не оценил?!» – терзали меня вопросы, на которые я не находил вразумительных ответов. И решил дней через пять, после предстоявшей мне короткой командировки, отправиться на телевидение и посмотреть картину заново. Но спешить в Гостелерадио мне не пришлось: фильм на следующей неделе прокрутили по первой программе еще раз. (Не в связи со статьей Анатолия Эфроса, а просто так уж совпало!) Однако в непосредственной связи со статьей мне стали звонить многие писатели, режиссеры, актеры: они тоже увидели картину и были с Эфросом абсолютно согласны. И тоже убежденно восхваляли режиссера, а заодно, ради приличия, и меня.
Когда я стал вновь и вновь встречаться на телеэкране с фильмом по своей повести, терзания мои обострились: как же я мог, как посмел не заметить, не понять? Как мог не защитить Костю от сбивавших меня с толку чиновников?! Пусть стилистика, интонация были не моими… Что из того? Его талант имел право…
Стал названивать в Киев, чтобы извиниться перед Костей Ершовым… и спросить, каким образом можно хоть что-то исправить (с категорией и так далее), а значит, исправить в какой-то мере и материальное положение режиссера, который очень нуждался.
Мне отвечали, что Костя находится в другом городе и на съемках другого фильма. Вскоре та сильнейшая картина – «Грачи» – с Леонидом Филатовым в главной роли (мне кажется, его первое столь значительное появление на экране) была оценена по достоинству. А фильм «Поздний ребенок» тем временем прокручивали по телевидению десятки раз. И чем внимательней, пристальней всматривался я в Костино произведение, тем больше оно меня покоряло: так бывает лишь с искусством подлинным. В помощи Костя Ершов, похоже, уже не нуждался…
Надо было лишь извиниться и вымолить у него прощение. Я решил сделать это не по телефону. А в Киев позвонил лишь для того, чтобы предупредить Костю о своем приезде.
– Его нет, – ответил мне такой же, как у него, робкий, сбивчивый голос.
– А когда он будет?
– Никогда… Он умер.
Костя умер внезапно. Как и внезапно поразил всех его дар…
Прошло много лет. «Прости меня, Костя…» – говорю я. И, может быть, он услышит? Может, поймет мое запоздалое покаяние? Может, примет его и простит?..
Некоторые, к моему изумлению, вспоминают свои школьные годы с неприязнью. А я люблю свою школу, приятелей детства. Были у меня и любимые учителя. Вообще, я более всего почитаю две профессии: учителя и врача. Эти призвания в чем-то схожи: один и другой заботятся о человеческом здоровье – только первый о здоровье нравственном, а второй – о физическом… Помню, всегда я ждал встреч с уроками литературы. Мария Федоровна Смирнова не «проходила литературу» (ибо «проходить» можно лишь мимо чего-нибудь), а приобщала нас к великим творениям. То были не только уроки литературы, а и уроки гуманизма.
Мария Федоровна говорила, к примеру:
– Ванька Жуков написал письмо «на деревню дедушке». Но, допустим, оно все же дошло… Что бы дедушка ответил Ваньке?
И мы все, ученики 4-го класса «Г», отвечали Ваньке от имени дедушки и звали его обратно в деревню и обещали, что все будет хорошо. Да, это были воистину уроки доброты…
Мария Федоровна первой знакомилась с моими незрелыми литературными опусами – и давала строгие, бесценные советы.
А потом все мы расстаемся со своими учителями… В жизненной круговерти, увы, не так уж часто вспоминаем о них и уж совсем редко с ними видимся. Бывает, конечно, и по-иному. Но, что греха таить, случается это как исключение… Прости нас, Господь!
Мария Федоровна сама прислала мне письмо. Сообщила, что внимательно «следит» за мной, не пропускает ни одной моей повести, ни одного моего спектакля. Обозначила в конце номер своего телефона, свой адрес. Я немедленно отозвался… И договорились мы непременно встретиться. «Только не надо надолго откладывать», – словно извиняясь, проговорила она. Следовало отправиться к ней в тот же вечер… Но были съемки очередной моей телепередачи «Лица друзей». Сейчас я думаю: почему так часто повседневная суета, и в том числе «Лица друзей», как бы отстраняли от меня лица моих личных друзей, не позволяли порой к ним прорваться? Хотя друзьями своими я всегда искренне и безмерно дорожил… После передачи нагрянули репетиции спектаклей в других городах, на которых я обязан был присутствовать. А еще позже… Не хочется перечислять.
Наконец – как только выдался просвет! – я позвонил, чтобы встретиться со своей самой любимой учительницей. И мне ответили… что ее уже нет. Она же предупреждала: «Только не надо надолго откладывать.» Наверно, была больна. Но не настаивала… из-за неизменной своей деликатности. Куда же девалась моя деликатность? Почему мы порою откладываем именно то, что касается самых близких, самых любимых? А потом рвем на себе волосы… Всю жизнь я, честное слово, старался откликаться на просьбы, помогать, «протягивать руку». Но все же случалось: туда, куда необходимо было устремиться немедленно, в первую очередь, не устремлялся. Суета, суета…
«С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата», – говорит один из моих персонажей. Он прав.
Запоздалые покаяния. Примите их все, перед кем виноват! К кому опоздал… Примите и простите, если можете.
Сочинял я когда-то не только стихи, но и тексты песен (кстати, вернувшись к тому жанру в более поздние годы, написал слова пародийных куплетов для популярного в свое время спектакля по моей пьесе «Мой брат играет на кларнете», а к стихам всерьез не возвращался более никогда!). В качестве поэта-песенника я и явился к композитору Тамаре Попатенко, теперь уже почти позабытой. Жила она на Хорошевском шоссе в одном из двухэтажных коттеджей, построенных пленными немцами и слегка напоминавших этакие европейские виллы, но оказавшихся очень непрочными и ныне уже ветхих или вовсе разрушенных. В те коттеджи, пытаясь, видимо, приноровиться к их полуевропейскому виду, вселяли главным образом деятелей культуры. Наиболее видные получали отдельные квартиры, а рядовые – комнаты, образуя коттеджные коммуналки. Тамара Попатенко занимала одну комнату… А из другой, помню, вышел молодой человек явно еврейской национальности, растерянно и неумело державший на руках запеленутого, словно в кокон, ребенка. «Композитор Оскар Фельцман… Начинающий, но очень даровитый!» – представила мне «новорожденного папу» Тамара.
Зигзаги судеб неисповедимы и непредсказуемы… Лет через четырнадцать моя жена Таня, работавшая в «культурном учреждении» с весьма длинным и громоздким именем – Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами – и фанатично заботившаяся о молодых дарованиях, послала на конкурс юного пианиста-виртуоза Володю Фельцмана, того самого младенца, который скрывался в коконе… на руках у начинающего композитора и начинающего родителя.
Еще лет через пять Володя завоевал гран-при на престижнейшем музыкальном конкурсе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Судьба мальчика из «кокона» была и тяжкой и триумфальной. Вначале он колесил с гастролями по стране: победитель международного конкурса музыкантов-исполнителей выступал во второсортных концертных залах, а чаще в провинциальных Домах культуры, в клубах, усыпанных шелухой от семечек… Не могу забыть его блистательное исполнение бетховенских сонат в одном из сочинских залов, где присутствовало человек двадцать, из которых примерно девять – в том числе и мы с женой – были приглашены самим Володей. Зарубежных гастролей он почти не удостаивался. В конце концов, Володя Фельцман посягнул замыслить отъезд из страны – и немедленно стал отказником. Это продолжалось томительно долго… Каждый день по восемь-десять часов выдающийся пианист играл, репетировал дома, но свидетелями его виртуозного дара так и оставались лишь домашние стены. Наконец, когда стал намечаться международный скандал, даже прежние власти смилостивились, отпустили… Давно уже Владимир Фельцман в США. Он – профессор консерваторий, дни его концертов пунктуально расписаны на годы вперед, он приглашается для выступлений и в Белый дом…
Мы с женой всегда относились к Володе нежно и заботливо. Тут никакие покаяния не требуются…
Но вот в отношениях с его отцом, бывшим «начинающим» композитором, а затем – заслуженным деятелем искусств, народным артистом России – был у меня один, я бы сказал, «нравственный сбой». Увы, был…
В 1968 году на сцене Московского ТЮЗа состоялась премьера спектакля «Мой брат играет на кларнете», успех которого был (без преувеличения!) ошеломляющим. И, безусловно, одна из решающих заслуг, определивших стилистику представления, принадлежала Оскару Фельцману (тому самому, некогда державшему на руках будущего профессора американской консерватории и победителя Международного «конкурса конкурсов»): спектакль-то был музыкальный! Один из первых советских мюзиклов…
До сих пор я нередко слышу ту фельцмановскую музыку. И многие, напевая или исполняя ее со сцены, уже не вспоминают, а часто и не подозревают, что неизменно мелодичные – то озорные, то раздумчиво-грустные, то лихие, искрометные – песни родились в спектакле Московского ТЮЗа, завоевавшего первые места, по-моему, на всех или почти на всех театральных конкурсах конца шестидесятых…
А потом пригласил меня в гости знаменитый кинорежиссер, народный артист СССР Александр Зархи (автор фильмов «Депутат Балтики», «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой в заглавной роли и других столь же памятных лент). Зархи – один из патриархов советского кинематографа – руководил Творческим объединением на «Мосфильме» и захотел, чтобы его объединение, создав картину на тот же сюжет, превзошло на экране громкий тюзовский успех! «Но фильм по форме не должен быть повторением спектакля буквально ни в чем!» Явился режиссер – эдакий бравый, самонадеянный авангардист, обильно рассуждавший о киноноваторстве. Меня это насторожило, я всегда консервативно был убежден, что в искусстве, как и в математике, есть величины постоянные, а есть переменные, и что лишь реализм – величина, безусловно, постоянная. Но все же меня убедили, что бравый новатор сумеет «переплюнуть» популярность спектакля. Поскольку картину сразу же наименовали «музыкальной», пригласили и композитора – очень талантливого, знаменитого, исполнявшегося не только у нас, но и за рубежом, – однако тоже новатора и, как мне показалось, увы, далеко не «мелодиста». А киномюзикл обязан был подарить зрителям новые любимые песни и танцы, но прежде всего – мелодии. Как подарил их спектакль…
– Я не могу, не смею «устранить» Оскара Фельцмана, которому «Мой брат играет на кларнете» в значительной степени обязан своей судьбой!..
– Те его песни уже всем известны, – возражали мне.
– Он сочинит новые, – и они, поверьте, станут такими же популярными!
– Два раза в одну реку не входят…
Одним словом, я сдался. И ощутил это вскоре чуть ли не предательством друга. Оскар вначале обиделся, но потом простил меня и одаривал своими мелодиями другие мои спектакли (кстати, в одном из них песни исполнял как бы за сценой великолепный актер Валентин Никулин).
Фельцман-то простил, но судьба не простила: новая музыка очень нравилась «специалистам» – искусствоведам, но, к сожалению, не была принята зрителями. Быть может, музыка та была изысканно-прекрасной. Может быть… Но почерк композитора, которого искренне почитаю, не соответствовал жанру картины. А музыка в музыкальном фильме – одно из главных действующих лиц! Кроме того, режиссер-новатор и «новых» актеров подобрал согласно своим воззрениям. Он не понимал, что достичь в искусстве простоты (высокой простоты!) гораздо сложнее, чем сложности. Ни один актер, игравший в спектакле, приглашен не был. Режиссера преследовала навязчивая цель: картина ни в чем не должна напоминать спектакль. И цель была достигнута: спектакль-то стал настоящим праздником, а картина осталась никем не замеченной. И слава Богу, что никто ее не приметил!..
Я даже решил переименовать фильм в «Сестру музыканта», чтобы он не бросал тень на спектакль, который не сходил со сцены около пятнадцати лет и в ТЮЗе и в других театрах. Итак, я был наказан за свою неверность…
– Простите, что без спроса врываюсь… Я – Костя Ершов. Вы меня не знаете… Я кинорежиссер, хотя ни одной картины еще не снял. Но читал и перечитывал ваши повести в «Юности»: это мой любимый журнал. Выбирал, что бы экранизировать…
– И на чем остановились?
– На «Позднем ребенке». Повесть, мне сказали, получила в Америке премию… Но для меня дело не в премии, а в том, что это произведение мне очень нравится… Вы разрешите его экранизировать?
И вот примерно через полгода на телеэкранах появился киновариант моего «Позднего ребенка». Отца играл Василий Меркурьев (это была его последняя роль), маму – прекрасная актриса Антонина Максимова, одного из главных героев – молодой Куравлев, а другого – Адоскин… Закадровый текст мастерски читал любимый мною Вениамин Смехов. Редкое актерское содружество! А вот сам фильм мне не лег на душу… Костя Ершов предложил, как говорится, «свое прочтение», мне же дорого было то произведение, к которому я привык. Когда фильм «принимало начальство», самая ответственная в ту пору на телевидении дама принялась настоятельно шептать мне в ухо: «Неужто вы согласитесь с этим? Вас исказили… Невозможно узнать ваших героев! Что за самовольство такое?!» И я поддался… Фильму присвоили «вторую категорию», а не первую и тем паче – не высшую. Это было ударом по самолюбию, а одновременно и «по карману» начинающего режиссера. А я тот фильм (и Костю, значит, тоже!) не поддержал… Мог бы встать на защиту, но не встал. Или сделал это вяло, неубедительно. Нет, я не боялся начальства… А просто внутренне на сей раз с ним согласился.
Сейчас не могу без дрожи вспомнить побелевшее лицо Кости, и так-то болезненно-бледное.
– Вам… не понравилось? – еле слышно проговорил он. И я, обычно чересчур сговорчивый и уступчивый, неожиданно для самого себя ответил:
– Честно говоря, нет…
Но вдруг… после телепоказа мне позвонил Ираклий Андроников: «Поздравляю! Это новое слово в киноискусстве! Замечательный фильм…» «Вы в самом деле так думаете?» «А разве можно думать иначе?»
Вскоре позвонил мой друг-кинематографист: «Ты читал?!» «Что именно?»
– Восторженную статью Анатолия Эфроса про твой фильм! В «Искусстве кино» … Ну, знаешь, таких слов от Анатолия Васильевича дождаться нелегко! Он же предельно взыскателен. А здесь… Вот послушай: «Мы обычно смотрим телевизор рассеянно и урывками, а тут как сел, так и просидел до конца… Нарисовал Дега своих голубых танцовщиц, и хотя там нет ничего драматического, а только в разных позах стоят несколько балерин, но столько грации, и вкуса, и тонкости в этой картине, что оторваться невозможно. Так и здесь, в фильме, – просто сидят за столом несколько милых людей и беседуют, а тебе очень интересно, и ты увлечен, потому что все от начала до конца лирично – юмор мягкий, все красиво и точно… И все до мелочей это семью выражает… В воспоминаниях детства есть всегда легкая загадочность. К этой легкой задумчивости многие стремятся, когда ставят фильмы, но немногим это удается, потому что не так просто создать некую дымку воспоминаний. Тут нужна удивительная мера и нежность… И тогда действительно передается чувство детства и семьи… Мне почему-то вспомнилось при этом, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил, что человек обязательно должен в себе сохранить свое детство, и чем больше в нем этих воспоминаний остается – тем лучше».
В той прошлой жизни за телефон не платили в зависимости от продолжительности разговоров, – и мой друг долго еще читал и комментировал:
– Ты подумай: это пишет Анатолий Эфрос! И какие у него ассоциации: Достоевский, Дега…
Все эти ассоциации, конечно же, прежде всего относились к замечательному, как оказалось, кинорежиссеру Косте Ершову.
– Ты, конечно, поддержал уникальный режиссерский талант? – спросил, но ничуть не сомневался в моем утвердительном ответе восторженный друг.
– Нет, – растерянно ответил я. И положил трубку. «Как же я не увидел? Не почувствовал? Не оценил?!» – терзали меня вопросы, на которые я не находил вразумительных ответов. И решил дней через пять, после предстоявшей мне короткой командировки, отправиться на телевидение и посмотреть картину заново. Но спешить в Гостелерадио мне не пришлось: фильм на следующей неделе прокрутили по первой программе еще раз. (Не в связи со статьей Анатолия Эфроса, а просто так уж совпало!) Однако в непосредственной связи со статьей мне стали звонить многие писатели, режиссеры, актеры: они тоже увидели картину и были с Эфросом абсолютно согласны. И тоже убежденно восхваляли режиссера, а заодно, ради приличия, и меня.
Когда я стал вновь и вновь встречаться на телеэкране с фильмом по своей повести, терзания мои обострились: как же я мог, как посмел не заметить, не понять? Как мог не защитить Костю от сбивавших меня с толку чиновников?! Пусть стилистика, интонация были не моими… Что из того? Его талант имел право…
Стал названивать в Киев, чтобы извиниться перед Костей Ершовым… и спросить, каким образом можно хоть что-то исправить (с категорией и так далее), а значит, исправить в какой-то мере и материальное положение режиссера, который очень нуждался.
Мне отвечали, что Костя находится в другом городе и на съемках другого фильма. Вскоре та сильнейшая картина – «Грачи» – с Леонидом Филатовым в главной роли (мне кажется, его первое столь значительное появление на экране) была оценена по достоинству. А фильм «Поздний ребенок» тем временем прокручивали по телевидению десятки раз. И чем внимательней, пристальней всматривался я в Костино произведение, тем больше оно меня покоряло: так бывает лишь с искусством подлинным. В помощи Костя Ершов, похоже, уже не нуждался…
Надо было лишь извиниться и вымолить у него прощение. Я решил сделать это не по телефону. А в Киев позвонил лишь для того, чтобы предупредить Костю о своем приезде.
– Его нет, – ответил мне такой же, как у него, робкий, сбивчивый голос.
– А когда он будет?
– Никогда… Он умер.
Костя умер внезапно. Как и внезапно поразил всех его дар…
Прошло много лет. «Прости меня, Костя…» – говорю я. И, может быть, он услышит? Может, поймет мое запоздалое покаяние? Может, примет его и простит?..
Некоторые, к моему изумлению, вспоминают свои школьные годы с неприязнью. А я люблю свою школу, приятелей детства. Были у меня и любимые учителя. Вообще, я более всего почитаю две профессии: учителя и врача. Эти призвания в чем-то схожи: один и другой заботятся о человеческом здоровье – только первый о здоровье нравственном, а второй – о физическом… Помню, всегда я ждал встреч с уроками литературы. Мария Федоровна Смирнова не «проходила литературу» (ибо «проходить» можно лишь мимо чего-нибудь), а приобщала нас к великим творениям. То были не только уроки литературы, а и уроки гуманизма.
Мария Федоровна говорила, к примеру:
– Ванька Жуков написал письмо «на деревню дедушке». Но, допустим, оно все же дошло… Что бы дедушка ответил Ваньке?
И мы все, ученики 4-го класса «Г», отвечали Ваньке от имени дедушки и звали его обратно в деревню и обещали, что все будет хорошо. Да, это были воистину уроки доброты…
Мария Федоровна первой знакомилась с моими незрелыми литературными опусами – и давала строгие, бесценные советы.
А потом все мы расстаемся со своими учителями… В жизненной круговерти, увы, не так уж часто вспоминаем о них и уж совсем редко с ними видимся. Бывает, конечно, и по-иному. Но, что греха таить, случается это как исключение… Прости нас, Господь!
Мария Федоровна сама прислала мне письмо. Сообщила, что внимательно «следит» за мной, не пропускает ни одной моей повести, ни одного моего спектакля. Обозначила в конце номер своего телефона, свой адрес. Я немедленно отозвался… И договорились мы непременно встретиться. «Только не надо надолго откладывать», – словно извиняясь, проговорила она. Следовало отправиться к ней в тот же вечер… Но были съемки очередной моей телепередачи «Лица друзей». Сейчас я думаю: почему так часто повседневная суета, и в том числе «Лица друзей», как бы отстраняли от меня лица моих личных друзей, не позволяли порой к ним прорваться? Хотя друзьями своими я всегда искренне и безмерно дорожил… После передачи нагрянули репетиции спектаклей в других городах, на которых я обязан был присутствовать. А еще позже… Не хочется перечислять.
Наконец – как только выдался просвет! – я позвонил, чтобы встретиться со своей самой любимой учительницей. И мне ответили… что ее уже нет. Она же предупреждала: «Только не надо надолго откладывать.» Наверно, была больна. Но не настаивала… из-за неизменной своей деликатности. Куда же девалась моя деликатность? Почему мы порою откладываем именно то, что касается самых близких, самых любимых? А потом рвем на себе волосы… Всю жизнь я, честное слово, старался откликаться на просьбы, помогать, «протягивать руку». Но все же случалось: туда, куда необходимо было устремиться немедленно, в первую очередь, не устремлялся. Суета, суета…
«С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата», – говорит один из моих персонажей. Он прав.
Запоздалые покаяния. Примите их все, перед кем виноват! К кому опоздал… Примите и простите, если можете.
Сочинял я когда-то не только стихи, но и тексты песен (кстати, вернувшись к тому жанру в более поздние годы, написал слова пародийных куплетов для популярного в свое время спектакля по моей пьесе «Мой брат играет на кларнете», а к стихам всерьез не возвращался более никогда!). В качестве поэта-песенника я и явился к композитору Тамаре Попатенко, теперь уже почти позабытой. Жила она на Хорошевском шоссе в одном из двухэтажных коттеджей, построенных пленными немцами и слегка напоминавших этакие европейские виллы, но оказавшихся очень непрочными и ныне уже ветхих или вовсе разрушенных. В те коттеджи, пытаясь, видимо, приноровиться к их полуевропейскому виду, вселяли главным образом деятелей культуры. Наиболее видные получали отдельные квартиры, а рядовые – комнаты, образуя коттеджные коммуналки. Тамара Попатенко занимала одну комнату… А из другой, помню, вышел молодой человек явно еврейской национальности, растерянно и неумело державший на руках запеленутого, словно в кокон, ребенка. «Композитор Оскар Фельцман… Начинающий, но очень даровитый!» – представила мне «новорожденного папу» Тамара.
Зигзаги судеб неисповедимы и непредсказуемы… Лет через четырнадцать моя жена Таня, работавшая в «культурном учреждении» с весьма длинным и громоздким именем – Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами – и фанатично заботившаяся о молодых дарованиях, послала на конкурс юного пианиста-виртуоза Володю Фельцмана, того самого младенца, который скрывался в коконе… на руках у начинающего композитора и начинающего родителя.
Еще лет через пять Володя завоевал гран-при на престижнейшем музыкальном конкурсе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Судьба мальчика из «кокона» была и тяжкой и триумфальной. Вначале он колесил с гастролями по стране: победитель международного конкурса музыкантов-исполнителей выступал во второсортных концертных залах, а чаще в провинциальных Домах культуры, в клубах, усыпанных шелухой от семечек… Не могу забыть его блистательное исполнение бетховенских сонат в одном из сочинских залов, где присутствовало человек двадцать, из которых примерно девять – в том числе и мы с женой – были приглашены самим Володей. Зарубежных гастролей он почти не удостаивался. В конце концов, Володя Фельцман посягнул замыслить отъезд из страны – и немедленно стал отказником. Это продолжалось томительно долго… Каждый день по восемь-десять часов выдающийся пианист играл, репетировал дома, но свидетелями его виртуозного дара так и оставались лишь домашние стены. Наконец, когда стал намечаться международный скандал, даже прежние власти смилостивились, отпустили… Давно уже Владимир Фельцман в США. Он – профессор консерваторий, дни его концертов пунктуально расписаны на годы вперед, он приглашается для выступлений и в Белый дом…
Мы с женой всегда относились к Володе нежно и заботливо. Тут никакие покаяния не требуются…
Но вот в отношениях с его отцом, бывшим «начинающим» композитором, а затем – заслуженным деятелем искусств, народным артистом России – был у меня один, я бы сказал, «нравственный сбой». Увы, был…
В 1968 году на сцене Московского ТЮЗа состоялась премьера спектакля «Мой брат играет на кларнете», успех которого был (без преувеличения!) ошеломляющим. И, безусловно, одна из решающих заслуг, определивших стилистику представления, принадлежала Оскару Фельцману (тому самому, некогда державшему на руках будущего профессора американской консерватории и победителя Международного «конкурса конкурсов»): спектакль-то был музыкальный! Один из первых советских мюзиклов…
До сих пор я нередко слышу ту фельцмановскую музыку. И многие, напевая или исполняя ее со сцены, уже не вспоминают, а часто и не подозревают, что неизменно мелодичные – то озорные, то раздумчиво-грустные, то лихие, искрометные – песни родились в спектакле Московского ТЮЗа, завоевавшего первые места, по-моему, на всех или почти на всех театральных конкурсах конца шестидесятых…
А потом пригласил меня в гости знаменитый кинорежиссер, народный артист СССР Александр Зархи (автор фильмов «Депутат Балтики», «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой в заглавной роли и других столь же памятных лент). Зархи – один из патриархов советского кинематографа – руководил Творческим объединением на «Мосфильме» и захотел, чтобы его объединение, создав картину на тот же сюжет, превзошло на экране громкий тюзовский успех! «Но фильм по форме не должен быть повторением спектакля буквально ни в чем!» Явился режиссер – эдакий бравый, самонадеянный авангардист, обильно рассуждавший о киноноваторстве. Меня это насторожило, я всегда консервативно был убежден, что в искусстве, как и в математике, есть величины постоянные, а есть переменные, и что лишь реализм – величина, безусловно, постоянная. Но все же меня убедили, что бравый новатор сумеет «переплюнуть» популярность спектакля. Поскольку картину сразу же наименовали «музыкальной», пригласили и композитора – очень талантливого, знаменитого, исполнявшегося не только у нас, но и за рубежом, – однако тоже новатора и, как мне показалось, увы, далеко не «мелодиста». А киномюзикл обязан был подарить зрителям новые любимые песни и танцы, но прежде всего – мелодии. Как подарил их спектакль…
– Я не могу, не смею «устранить» Оскара Фельцмана, которому «Мой брат играет на кларнете» в значительной степени обязан своей судьбой!..
– Те его песни уже всем известны, – возражали мне.
– Он сочинит новые, – и они, поверьте, станут такими же популярными!
– Два раза в одну реку не входят…
Одним словом, я сдался. И ощутил это вскоре чуть ли не предательством друга. Оскар вначале обиделся, но потом простил меня и одаривал своими мелодиями другие мои спектакли (кстати, в одном из них песни исполнял как бы за сценой великолепный актер Валентин Никулин).
Фельцман-то простил, но судьба не простила: новая музыка очень нравилась «специалистам» – искусствоведам, но, к сожалению, не была принята зрителями. Быть может, музыка та была изысканно-прекрасной. Может быть… Но почерк композитора, которого искренне почитаю, не соответствовал жанру картины. А музыка в музыкальном фильме – одно из главных действующих лиц! Кроме того, режиссер-новатор и «новых» актеров подобрал согласно своим воззрениям. Он не понимал, что достичь в искусстве простоты (высокой простоты!) гораздо сложнее, чем сложности. Ни один актер, игравший в спектакле, приглашен не был. Режиссера преследовала навязчивая цель: картина ни в чем не должна напоминать спектакль. И цель была достигнута: спектакль-то стал настоящим праздником, а картина осталась никем не замеченной. И слава Богу, что никто ее не приметил!..
Я даже решил переименовать фильм в «Сестру музыканта», чтобы он не бросал тень на спектакль, который не сходил со сцены около пятнадцати лет и в ТЮЗе и в других театрах. Итак, я был наказан за свою неверность…