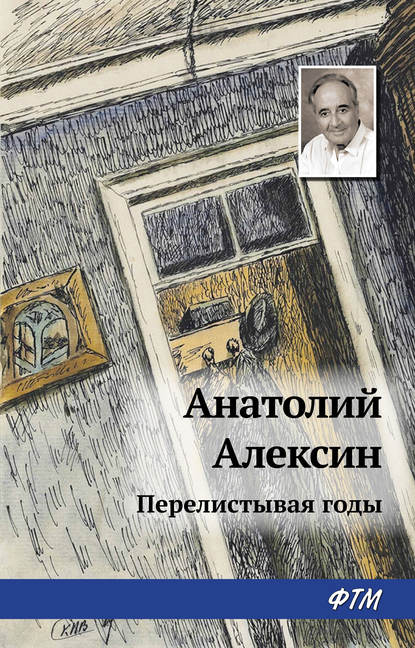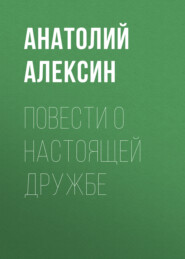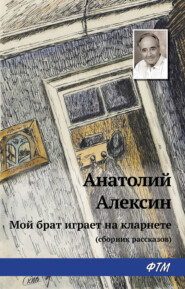По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А бабушка как ни в чем не бывало говорила:
– Принеси-ка коробку с нитками. Будешь шить и учить стихи.
Мне становилось легче.
– Вы опять не понимаете меня… Мною движут только благородные чувства, – донеслось из зала суда.
«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» – вновь подумала я.
И отправилась в глубь коридора.
Маму называли крепким специалистом. Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще большую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.
Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.
Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду. Любая труба, мне казалось, в ее присутствии дымила застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.
Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была естественнее, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным, несправедливым.
Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным. Но с годами как-то пригнулся… Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.
А впрочем, я, наверное, опять была не права, несправедлива к своим родителям.
Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли…
Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:
– Ты, Вера, не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегает во дворе: они абсолютно здоровы.
«Ты не должна, ты не можешь…» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными.
Я слушала всех, но слушалась бабушку.
За музейные ценности папа сражался так же, как мама за окружающую среду.
– В запасниках прозябает столько шедевров! – возмущался он. – Это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство – это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий… Он необходим для нравственного здоровья!
Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать голос.
Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверное, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась кошка.
Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не разглядела. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким.
Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.
– Я сделался копировщиком картин, – сообщил он мне как-то. – Сделался копировщиком… Ну а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда, давно… лучше понимала меня, я бы мог стать личностью… В искусстве по крайней мере! Хотел создавать свои полотна – теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?
– Разводятся, – неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос не мне, а как бы бросил его в пространство… Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.
Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.
– Ты сама догадалась или тебе подсказали? – допытывался он.
– Подсказали, – ответила я.
– Кто?
– Ты.
– Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно… – ликовал папа. И восторженно заламывал руки. – Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать!
Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой. Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:
– А почему вы все-таки не развелись?
– Потому что я… люблю маму.
– И правильно делаешь! – с облегчением изрекла я.
Это привело папу в еще больший экстаз:
– Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить… Все логично. Никаких умственных и нравственных отклонений!
Он еле дождался маминого возвращения с работы. И прямо в коридоре поделился счастливой новостью.
– Она сказала буквально… цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!
Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.
– Так и сказала?! – восхитилась мама. – «А почему вы не развелись?»
– Буква в букву!
– Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?
– Нет… Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю… Это был голос разума, помноженный на голос сердца! – Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. – Еще одна новая стадия! – зафиксировал он.
Бабушка пожала плечами.
– Какая такая стадия?
– Нет, не говорите, – возразила мама. – Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас ликовать?! Необходимо закрепить данное ее состояние… Бесспорно! – Мама вновь повернулась к папе: – А в результате чего она обратилась к этим проблемам?
– Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место в далеком прошлом. В очень далеком. – Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. – Но она сама, без всякой моей подсказки перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! – заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. – Еще один новый этап!
– Это бесспорно, – согласилась с ним мама. – Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе… В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!
Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом обессмерчена.