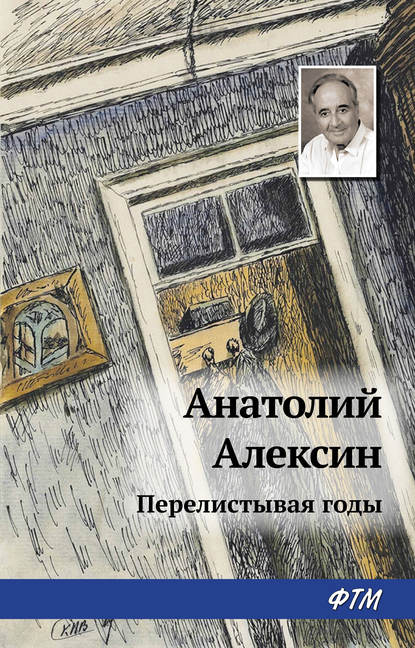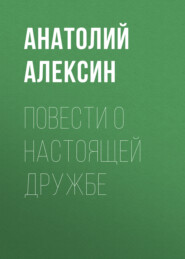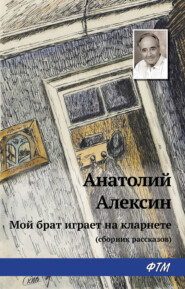По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец, что греха таить, не без трепета принялся читать. Но «смутившие» строки были подчеркнуты красным карандашом.
– Да… здесь вот, конечно…
– Вовремя понять свою ошибку – значит, почти ее исправить, – снисходительно произнес вождь.
Сидя в камере смертников, отец вспоминал ту фразу – и убеждал себя, что Сталин не ведает о кошмарах «большого террора», что его обманывают, дезориентируют… Легенда о снисходительности вождя, созданная одной фразой, произвела на него магическое воздействие. Ныне трудно поверить…
На заседании Комитета по сталинским премиям, когда сообщили о том, что один из очень талантливых соискателей, как оказалось, «сидел» и не сообщал об этом в анкетах, Сталин изрек:
– А мы за что даем ему премию – за биографию или за роман?
«Вот он какой: анкетам не придает ни малейшего значения! Для него важны литература, талант… Стало быть, это помощнички изгаляются. Выслуживаются… Это они!» – думали, расходясь, члены комитета. И распространяли свои «думы» вокруг…
Так легенды – одна за одной – добавляли к обманному облику «друга и учителя» новые завораживающие черты.
– Я ему верил, – тихо и виновато сказал Фадеев.
«Финита ля комедиа»
Из блокнота
Я знал человека, который на пятнадцатый день войны обвязался гранатами и бросился под немецкий танк. Но танк остановился как вкопанный, точно врос в землю… Герой остался в живых, чем был весьма опечален. Он объяснил свою «неудачу» качеством немецких тормозов – и был арестован, а затем приговорен трибуналом к десяти годам заключения за «пораженческие настроения». Тормоза-то он похвалил вражеские! Этот фронтовой случай описан мною в романе «Сага о Певзнерах».
Фраза, одна честная фраза, была для больного палаческого воображения СМЕРШа важней (в негативном смысле!), чем немыслимый героизм и беззаветная самоотверженность. Я употребляю возвышенные и даже высокопарные определения, но в данном случае и они слабы, недостаточны.
Думаю, одной из причин нашей неподготовленности к войне послужило то, что «недреманное око» служб Берии было озабочено не столько агрессивными приготовлениями Гитлера, сколько тем, кто какой рассказал анекдот, кто и как воодушевился или не воодушевился при упоминании «вождя и мучителя».
Безразличие к человеческой жизни, полная ее девальвация – вот самая чудовищная примета сталинской эпохи.
Тот, кто в грош не ставит чужую жизнь, обычно патологически дорожит своей собственной. Ценность людей определялась не их достоинствами, не их нужностью стране, народу, человечеству, а занимаемой должностью. В годы войны пришлось, однако, пойти на некоторое отступление от этого циничного правила. Власть вынуждена была изменять самой себе. Порой в неожиданных ситуациях.
Вот, к примеру, стали охранять, оберегать и… Юрия Левитана. Значение силы и воздействия его голоса было уникально: люди обретали надежду, уже, казалось, безвозвратно утерянную, обретали возможности, которые, чудилось, до конца иссякли. Можно без пафосного преувеличения сказать: его возлюбил народ.
Трудно подозревать в любви к нему также и Иосифа Виссарионовича. Я мысленно восклицаю: «Боже, какой же у Юрия Левитана был голос, если величайший антисемит Сталин в годы войны позволил этому голосу стать голосом всей державы!»
Левитан часто носил с собой посеревший и словно съежившийся от времени листок, на котором было написано: «Обявите меня только как…» Далее был указан лишь один из многочисленных высочайших постов вождя. Какой именно, я точно не помню… Подписи не было, но фраза принадлежала перу – а точнее, красному карандашу – товарища Сталина. Так прямо и было написано: «Обявите» – без твердого знака. Как в «исторической» фразе о слабой, по мнению самого М. Горького, поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете: любовь побеждает смерт» – слово «смерть» было лишено мягкого знака. И многие газеты ежегодно, в день рождения Алексея Максимовича, цитируя то откровение вождя, печатали слово «смерть» без его завершающей буквы: раз Иосиф Виссарионович так написал, стало быть, так и надо!
– Сталин успел передать мне эту записку, – рассказывал Левитан, – 3 июля 1941 года, буквально за минуту до того, как я включил микрофон и объявил, что «работают все радиостанции Советского Союза». Он сообразил, я думаю, что нагромождение высших чинов и званий не соответствовало трагизму и отчаянности тех дней. Хотя «главным виновником» трагизма, коим являлся, он себя, конечно, не ощущал…
Да, всю войну Юрия Борисовича охраняли. Узнал он об этом позже. За его голову Гитлер сулил гигантскую сумму марок. И это не выдумка, не легенда…
Когда Лев Кассиль «привлек» меня к передачам с Красной площади, которые, между прочим, велись из бельевого отдела ГУМа, что как-то не соответствовало их парадности, я и познакомился с Левитаном.
– Я милого узнаю по походке, а Левитана по голосу, – помню, кокетливо пошутила в студии популярная актриса.
– По голосу души и таланта, – без всякой шутливости дополнил кто-то.
И я подумал: а ведь действительно, каждый день (каждый!) его душа и талант помогали нам верить, проникать не просто в «приказы» и «сообщения», а в смысл происходящего. Тот смысл определял судьбу человечества…
Юрий числился «всего лишь» диктором, но из истории его вычеркнуть невозможно. А так, в повседневности, не позволял своей легендарности высовываться – был прост без намека на простоватость, остроумен без намека на хохмачество, любил изящество и красоту (прежде всего, я полагаю, женскую).
Левитан записывал и, так сказать, запечатлевал для грядущего все смешные оговорки, которые безвозвратно улетали в эфир. «Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь». Странная поговорка: попробуйте-ка поймать воробья! Так вот, в первой же передаче я обогатил левитановский «оговорочник». Это было давно: на парад еще выходила конница. Я и сказал: «Вы слышите цокот копыт командного состава…»
Чуть позже, когда мы покидали студию, Юрий Борисович обратил мое внимание на человека, в чьей седине угадывались пряди беды и скорби.
– А он вот за свою «оговорку» почти поплатился жизнью, – сказал Левитан.
Юрий Борисович понемногу терял слух – и потому иногда спрашивал: «Я не громко?..»
Тот человек был одним из первых организаторов праздничных трансляций с Красной площади… В 1934 году Москва встречала челюскинцев. Всенародные празднества были в моде. «Ох ты, радость молодая, невозможная!» Сие должно было провозглашаться не только голосом Любови Орловой с экрана, но и настроением миллионов дома, на работе, на собраниях и площадях. Поскольку «жить стало лучше, жить стало веселее», это новое качество жизни, в преддверии «большого террора», обязано было обнаруживать себя везде и повсюду. Тем более на встрече челюскинцев…
День выдался не просто по-летнему ясный, а как бы затопленный солнцем. Сталин так прочно обосновался в центре мавзолейной трибуны, будто и не намеревался ее покидать.
А меж тем «литературный материал» у прозаиков, поэтов и дикторов, разумеется, подготовленный заранее, уже истощался. Наконец, все заготовленное и многократно завизированное прозвучало… Импровизировать же было не принято.
По крайней мере, импровизации тоже подлежали цензурной проверке. «Главлитчик», а по-простому – цензор, бдительно впивался в наспех сочиненные, не вызывавшие ни малейших сомнений оды и панегирики – и благословлял их цветным карандашом (карандашная роспись и тут считалась почему-то солидней, предпочтительней, чем тонкий след пера).
Но и источники вдохновения постепенно иссякали, мелели, а в голоса пробивалась естественная, но недопустимая для такого дня усталость. Москвичи же продолжали ликовать, не желая считаться с трудностями воспевателей, изнывавших в гумовском бельевом отделе. А вождь в белом летнем кителе умеренно помахивал рукой и умеренно то ли улыбался, то ли ухмылялся в усы: у вождей чрезмерных проявлений быть не должно.
Но вот последние демонстранты собрались возле мавзолея, бурно признались в любви и верности вождю (тут уж ничто не могло считаться чрезмерным!); Сталин в сопровождении соратников неторопливо спустился по ступеням и скрылся внутри мавзолея, откуда подземный ход ведет непосредственно в Кремль.
Тогда руководитель радиотрансляции, еще не седой, опустился на стул и произнес:
– Ну, «финита ля комедиа»!
Забылся? Расслабился? А микрофон отключен не был.
Домой он вернулся через восемнадцать лет…
Отец и дети
С голоса
Фамилия директора школы, где в тридцатые годы учились дети членов политбюро, была Гроза.
Газетные строки
Тоннеля не было. Но свет в конце был: в самом конце, за которым нет уже ничего, – нереальный, неземной свет. И неузнаваемый, потому что нельзя узнать то, чего никогда не видел.
И в том загадочном озарении возникли дети мои. Все трое… Давно уже взрослые, но для меня – все равно дети. Они встречали меня. И не выглядели гонимыми мучениками, коими оказались в свои последние годы, – наоборот, они, чудилось, источали тот самый свет, который я видел в конце. Нетерпеливый свет ожидания…
Я попытался крикнуть, чтоб они, не дай Бог, не исчезли, не дождавшись меня. Но голос, и ноги, и все мое тело были свинцово скованы, как часто случается в снах. Хотя не оковы сна парализовали меня, а оковы небытия. В привычном земном понимании… Небытие, наконец-то, пришло, а время оторваться, взлететь еще не настало.
– Я всегда утверждал, что клиническая смерть – это еще не смерть, – раздался совсем рядом самонадеянный, прокуренный бас. Я даже уловил его табачный запах, пробившийся сквозь марлевую повязку. – Все-таки мы его вытащили.
«Не вытаскивайте меня… Не возвращайте! Не надо… Не разлучайте снова с детьми, которые ждут и встречают!..» То был вопль души, который невозможно услышать. Да если б они и услышали, все равно бы не подчинились.
А потом я полузаснул… И мне вдруг привиделось, что судьба детей моих схожа с судьбой детей Сталина. Его сыновей, его дочери…
– Да… здесь вот, конечно…
– Вовремя понять свою ошибку – значит, почти ее исправить, – снисходительно произнес вождь.
Сидя в камере смертников, отец вспоминал ту фразу – и убеждал себя, что Сталин не ведает о кошмарах «большого террора», что его обманывают, дезориентируют… Легенда о снисходительности вождя, созданная одной фразой, произвела на него магическое воздействие. Ныне трудно поверить…
На заседании Комитета по сталинским премиям, когда сообщили о том, что один из очень талантливых соискателей, как оказалось, «сидел» и не сообщал об этом в анкетах, Сталин изрек:
– А мы за что даем ему премию – за биографию или за роман?
«Вот он какой: анкетам не придает ни малейшего значения! Для него важны литература, талант… Стало быть, это помощнички изгаляются. Выслуживаются… Это они!» – думали, расходясь, члены комитета. И распространяли свои «думы» вокруг…
Так легенды – одна за одной – добавляли к обманному облику «друга и учителя» новые завораживающие черты.
– Я ему верил, – тихо и виновато сказал Фадеев.
«Финита ля комедиа»
Из блокнота
Я знал человека, который на пятнадцатый день войны обвязался гранатами и бросился под немецкий танк. Но танк остановился как вкопанный, точно врос в землю… Герой остался в живых, чем был весьма опечален. Он объяснил свою «неудачу» качеством немецких тормозов – и был арестован, а затем приговорен трибуналом к десяти годам заключения за «пораженческие настроения». Тормоза-то он похвалил вражеские! Этот фронтовой случай описан мною в романе «Сага о Певзнерах».
Фраза, одна честная фраза, была для больного палаческого воображения СМЕРШа важней (в негативном смысле!), чем немыслимый героизм и беззаветная самоотверженность. Я употребляю возвышенные и даже высокопарные определения, но в данном случае и они слабы, недостаточны.
Думаю, одной из причин нашей неподготовленности к войне послужило то, что «недреманное око» служб Берии было озабочено не столько агрессивными приготовлениями Гитлера, сколько тем, кто какой рассказал анекдот, кто и как воодушевился или не воодушевился при упоминании «вождя и мучителя».
Безразличие к человеческой жизни, полная ее девальвация – вот самая чудовищная примета сталинской эпохи.
Тот, кто в грош не ставит чужую жизнь, обычно патологически дорожит своей собственной. Ценность людей определялась не их достоинствами, не их нужностью стране, народу, человечеству, а занимаемой должностью. В годы войны пришлось, однако, пойти на некоторое отступление от этого циничного правила. Власть вынуждена была изменять самой себе. Порой в неожиданных ситуациях.
Вот, к примеру, стали охранять, оберегать и… Юрия Левитана. Значение силы и воздействия его голоса было уникально: люди обретали надежду, уже, казалось, безвозвратно утерянную, обретали возможности, которые, чудилось, до конца иссякли. Можно без пафосного преувеличения сказать: его возлюбил народ.
Трудно подозревать в любви к нему также и Иосифа Виссарионовича. Я мысленно восклицаю: «Боже, какой же у Юрия Левитана был голос, если величайший антисемит Сталин в годы войны позволил этому голосу стать голосом всей державы!»
Левитан часто носил с собой посеревший и словно съежившийся от времени листок, на котором было написано: «Обявите меня только как…» Далее был указан лишь один из многочисленных высочайших постов вождя. Какой именно, я точно не помню… Подписи не было, но фраза принадлежала перу – а точнее, красному карандашу – товарища Сталина. Так прямо и было написано: «Обявите» – без твердого знака. Как в «исторической» фразе о слабой, по мнению самого М. Горького, поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете: любовь побеждает смерт» – слово «смерть» было лишено мягкого знака. И многие газеты ежегодно, в день рождения Алексея Максимовича, цитируя то откровение вождя, печатали слово «смерть» без его завершающей буквы: раз Иосиф Виссарионович так написал, стало быть, так и надо!
– Сталин успел передать мне эту записку, – рассказывал Левитан, – 3 июля 1941 года, буквально за минуту до того, как я включил микрофон и объявил, что «работают все радиостанции Советского Союза». Он сообразил, я думаю, что нагромождение высших чинов и званий не соответствовало трагизму и отчаянности тех дней. Хотя «главным виновником» трагизма, коим являлся, он себя, конечно, не ощущал…
Да, всю войну Юрия Борисовича охраняли. Узнал он об этом позже. За его голову Гитлер сулил гигантскую сумму марок. И это не выдумка, не легенда…
Когда Лев Кассиль «привлек» меня к передачам с Красной площади, которые, между прочим, велись из бельевого отдела ГУМа, что как-то не соответствовало их парадности, я и познакомился с Левитаном.
– Я милого узнаю по походке, а Левитана по голосу, – помню, кокетливо пошутила в студии популярная актриса.
– По голосу души и таланта, – без всякой шутливости дополнил кто-то.
И я подумал: а ведь действительно, каждый день (каждый!) его душа и талант помогали нам верить, проникать не просто в «приказы» и «сообщения», а в смысл происходящего. Тот смысл определял судьбу человечества…
Юрий числился «всего лишь» диктором, но из истории его вычеркнуть невозможно. А так, в повседневности, не позволял своей легендарности высовываться – был прост без намека на простоватость, остроумен без намека на хохмачество, любил изящество и красоту (прежде всего, я полагаю, женскую).
Левитан записывал и, так сказать, запечатлевал для грядущего все смешные оговорки, которые безвозвратно улетали в эфир. «Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь». Странная поговорка: попробуйте-ка поймать воробья! Так вот, в первой же передаче я обогатил левитановский «оговорочник». Это было давно: на парад еще выходила конница. Я и сказал: «Вы слышите цокот копыт командного состава…»
Чуть позже, когда мы покидали студию, Юрий Борисович обратил мое внимание на человека, в чьей седине угадывались пряди беды и скорби.
– А он вот за свою «оговорку» почти поплатился жизнью, – сказал Левитан.
Юрий Борисович понемногу терял слух – и потому иногда спрашивал: «Я не громко?..»
Тот человек был одним из первых организаторов праздничных трансляций с Красной площади… В 1934 году Москва встречала челюскинцев. Всенародные празднества были в моде. «Ох ты, радость молодая, невозможная!» Сие должно было провозглашаться не только голосом Любови Орловой с экрана, но и настроением миллионов дома, на работе, на собраниях и площадях. Поскольку «жить стало лучше, жить стало веселее», это новое качество жизни, в преддверии «большого террора», обязано было обнаруживать себя везде и повсюду. Тем более на встрече челюскинцев…
День выдался не просто по-летнему ясный, а как бы затопленный солнцем. Сталин так прочно обосновался в центре мавзолейной трибуны, будто и не намеревался ее покидать.
А меж тем «литературный материал» у прозаиков, поэтов и дикторов, разумеется, подготовленный заранее, уже истощался. Наконец, все заготовленное и многократно завизированное прозвучало… Импровизировать же было не принято.
По крайней мере, импровизации тоже подлежали цензурной проверке. «Главлитчик», а по-простому – цензор, бдительно впивался в наспех сочиненные, не вызывавшие ни малейших сомнений оды и панегирики – и благословлял их цветным карандашом (карандашная роспись и тут считалась почему-то солидней, предпочтительней, чем тонкий след пера).
Но и источники вдохновения постепенно иссякали, мелели, а в голоса пробивалась естественная, но недопустимая для такого дня усталость. Москвичи же продолжали ликовать, не желая считаться с трудностями воспевателей, изнывавших в гумовском бельевом отделе. А вождь в белом летнем кителе умеренно помахивал рукой и умеренно то ли улыбался, то ли ухмылялся в усы: у вождей чрезмерных проявлений быть не должно.
Но вот последние демонстранты собрались возле мавзолея, бурно признались в любви и верности вождю (тут уж ничто не могло считаться чрезмерным!); Сталин в сопровождении соратников неторопливо спустился по ступеням и скрылся внутри мавзолея, откуда подземный ход ведет непосредственно в Кремль.
Тогда руководитель радиотрансляции, еще не седой, опустился на стул и произнес:
– Ну, «финита ля комедиа»!
Забылся? Расслабился? А микрофон отключен не был.
Домой он вернулся через восемнадцать лет…
Отец и дети
С голоса
Фамилия директора школы, где в тридцатые годы учились дети членов политбюро, была Гроза.
Газетные строки
Тоннеля не было. Но свет в конце был: в самом конце, за которым нет уже ничего, – нереальный, неземной свет. И неузнаваемый, потому что нельзя узнать то, чего никогда не видел.
И в том загадочном озарении возникли дети мои. Все трое… Давно уже взрослые, но для меня – все равно дети. Они встречали меня. И не выглядели гонимыми мучениками, коими оказались в свои последние годы, – наоборот, они, чудилось, источали тот самый свет, который я видел в конце. Нетерпеливый свет ожидания…
Я попытался крикнуть, чтоб они, не дай Бог, не исчезли, не дождавшись меня. Но голос, и ноги, и все мое тело были свинцово скованы, как часто случается в снах. Хотя не оковы сна парализовали меня, а оковы небытия. В привычном земном понимании… Небытие, наконец-то, пришло, а время оторваться, взлететь еще не настало.
– Я всегда утверждал, что клиническая смерть – это еще не смерть, – раздался совсем рядом самонадеянный, прокуренный бас. Я даже уловил его табачный запах, пробившийся сквозь марлевую повязку. – Все-таки мы его вытащили.
«Не вытаскивайте меня… Не возвращайте! Не надо… Не разлучайте снова с детьми, которые ждут и встречают!..» То был вопль души, который невозможно услышать. Да если б они и услышали, все равно бы не подчинились.
А потом я полузаснул… И мне вдруг привиделось, что судьба детей моих схожа с судьбой детей Сталина. Его сыновей, его дочери…