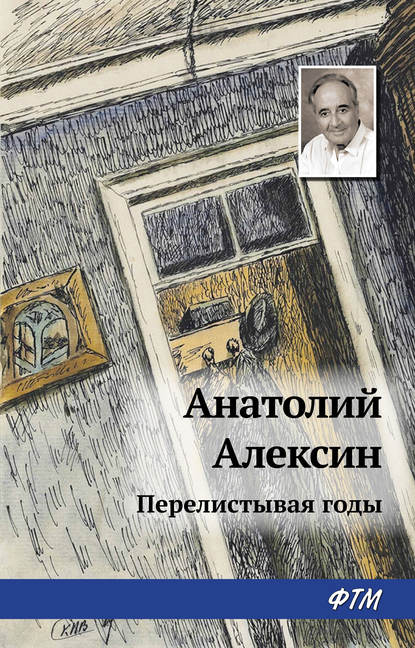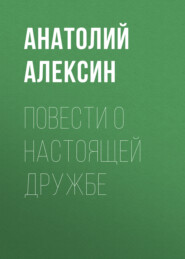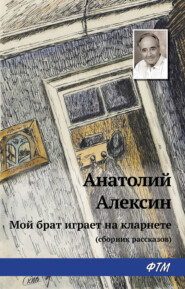По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Я ни в чем не виноват!..» Чем же все-таки Евсей Фейнберг не угодил режиму? Он оказался виноват перед сталинской системой лишь в том, что был до нереальности честен, порядочен, неспособен на пресмыкательство и холуйство. Эти его качества были антиподны строю, при котором все должны были замереть «в строю», оцепеневшем от послушания. А он, сын богатого немецкого банкира, идеалист и неукротимый правдолюбец, на расстоянии поверил тому режиму, чьи провозглашения никогда не стыковались с намерениями и действиями. Поверил и устремился на созидание «светлого будущего», под которым сталинская система разумела жестокую непроглядность. Но он-то, Евсей Борисович, и его талант строителя воздвигали дома, заводы, мосты… Под светом и добром он-то разумел свет и добро. Разве могли такое простить?
Пробиться к желанному всеобщему раболепию режим мог только дорогой страха. Но не какого-нибудь обычного, заурядного, а дьявольского, еще не виданного в истории! Такой ужас и порождала сталинская, официально, разумеется, не объявленная, теория «нелогичной кары». Если кара «логична» (хоть и с точки зрения чуждой тебе логики), она предсказуема – и можно ее упредить, избежать: веди себя согласно требованиям режима – и ты в безопасности. Но нет: ты можешь быть фанатически предан коммунистической партии, с утра до глубокой ночи славить вождя, даже рисковать ради них жизнью – и будешь арестован, судим, уничтожен. А кто-то другой (как, допустим, бывший генеральный прокурор Вышинский) может быть в прошлом кадетом или меньшевиком, состоять в родстве с зарубежным священником высокого ранга – и он-то как раз будет тебя обвинять, судить, приговаривать. «Какое вообще значение имеет биография?» – демократично изречет в этом случае товарищ Сталин. Вот при такой «нелогичности» наказания, по сталинскому замыслу, должны были трепетать все, ибо неизвестно было, в кого ткнет, на кого укажет карающий перст.
Разве мог хоть кто-то – тем более в «заграничной дали» – подобное себе представить, вообразить? Это было немыслимо, потому что подобного – вновь берусь утверждать! – еще не ведало человечество. Царь Иван, прозванный Грозным, уничтожил столько единоплеменников, сколько в годы «большого террора» репрессировали, думаю, за две-три ночи в одной только Москве. А ведь «черные вороны» рыскали по всем городам и весям страны…
Ни один властитель не сгноил такого количества своих сограждан, какое замучил пытками и утопил в крови Сталин. Это известно, но надо повторять, чтобы все тоскующие по его сатанинской власти избавились от своей самоубийственной, грешной тоски.
Даже человек высокого ума и уникального образования, каким был Евсей Фейнберг, но выросший или, как принято говорить, формировавшийся вдали от ленинско-сталинских нравов, так и не сумел до конца поверить в осуществимость жестокости такого непостижимого «качества» и таких небывалых – ни в прошлом, ни, надеюсь, в грядущем – масштабов. Вот почему он все же надеялся, что восемь лет заточения, к которым был приговорен, будут восьмью годами… Даже в Магадане он, думаю, не сразу осознал, что то была конечная станция его короткого бытия.
Достаточно увидеть его лицо, чтобы еще раз понять, убедиться: режим уничтожал лучших.
История Евсея Фейнберга – не потому, что он отец моей жены, а потому, что так и есть! – это сюжет романа, повести. Я и написал «Ночной обыск», который был опубликован в московском журнале «Октябрь». О многом из того, о чем вы прочли на предыдущей странице, мученически размышляет героиня моей, по сути документальной, повести…
Среди непонятностей, которые, наталкиваясь одна на другую, вторгаются в каждую человеческую жизнь, есть непонятность, для меня совершенно невообразимая: как, каким образом неслыханное в веках злодейство сочеталось с массовым обожанием злодея его жертвами, в том числе потенциальными, коими были почти все?! Когда моего отца и всех его друзей репрессировали, я, тринадцатилетний, понял, что это происходит не только с ведома Сталина, но и с его благословения. Задолго до своего ареста понял это и Евсей Борисович. Позже, однако, гораздо позже, из мемуаров знаменитых писателей, деятелей культуры, полководцев я узнал, что они, оказывается, верили… Во что?! Ну, у кого-то из, так сказать, рядовых граждан ужасом разум отшибло. Даже Лион Фейхтвангер, приехав ненадолго, не разобрался. Грустно, но можно понять… А вот умнейшие люди, постоянно жившие при советском строе, они-то во что верили, рискуя каждый день стать жертвами «большого террора»? В то, что все знаменитые военачальники (кроме таких дебильных, как Ворошилов, Буденный) были шпионами? В то, что вражески действовали почти все без исключения министры (в то время наркомы), их заместители, почти все поголовно командиры производства, тысячи и тысячи ученых, людей искусства, простых рабочих, крестьян? Верить можно было лишь в некоем обалдении. Или все-таки лгут, что верили? Полагаю, вторая версия чаще всего и является истиной.
Другое дело, что такие «рыцари без страха и упрека», как Евсей Фейнберг, всегда считают в чем-то виноватыми и себя: «Сегодня исполнилось десять лет со дня нашей женитьбы… Слишком много тяжелого пришлось нам пережить. Но большая часть страданий выпала на твою долю». Большая часть… Так пишет он жене из сталинского лагеря смерти. «Это терзает меня сейчас сильнее всего. Ведь я лишен возможности в течение восьми лет загладить эту вину перед тобой…»
И ни одной жалобы, ни одной просьбы о сострадании. Из лагеря смерти! Через несколько месяцев его не стало…
Более бесхитростного человека, чем Евсей Борисович, отыскать было трудно. Но, поняв, что его арестуют, он пошел на спасительный для своей жены, – а стало быть, и для дочери Тани – спектакль. Изменив себе, а не жене, не своему дому, он сделал вид, что семья распалась, – и развелся. Уже потом, через много лет, мать рассказала Тане, что тот развод был подвигом мужа и отца. Евсей Фейнберг не мог допустить, чтобы жена и дочь считались «семьей изменника родины». ЧС (или «члены семьи»)… То было клеймо, которое, как правило, становилось путевкой в тюрьму, в ссылку, в детдом. Евсей Фейнберг уберег самых любимых людей от клейма. И эту историю я тоже воссоздал в повести «Ночной обыск».
«Я ни в чем не виноват!» Кажется, только одна фраза в письме была криком.
«Я ни в чем не виноват!», «Я ни в чем не виновата…» – писали, кричали, доказывали десятки миллионов. Никто не услышал.
Как же надо было вымуштровать, выдрессировать общество, чтобы оно не воспротивилось тому кошмару… и обливалось слезами, когда наконец освободилось от палача?! Как же надо было…
Заброшенный памятник
С голоса
Могилы, надгробия, памятники… Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сровнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому, тогда по горестным этим пристанищам можно определить: продолжается ли жизнь того, кто ушел, хоть в чьей-то душе, в чьей-то памяти или навеки оборвана безразличием, неблагодарностью, расплатой за что-то, происшедшее на земле.
Надгробия, памятники, могилы… Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.
Первые и единственные конфликты – а верней, несогласия – между мной и мужем произошли месяца за три до рождения сына. Речь шла об имени и национальности, которыми сыну предстояло обладать с появлением на свет и до последнего вздоха. Но вспомню все по порядку.
Часами, совершая прогулки по совету врачей, я разговаривала с будущим сыном, который был будущим лишь для других, а для меня он уже существовал, даже действовал потихоньку… и не где-нибудь вдали или рядом, а во мне самой. Большей близости матери и ребенка, чем в пору беременности, наверное, не бывает. Я называла сына – то вслух, то мысленно, про себя – Фимой, потому что Ефимом звали моего мужа. С фанатичным нетерпением ждала я мальчика, потому что после, когда-нибудь он должен был стать мужчиной: как мой муж! И таким – только таким – как он. Столь нетерпеливо, порой с истеричным напряжением ждала я продолжения нашей семьи оттого, что предвкушала в этом продолжении повторение. Повторение своего мужа, его облика, его образа.
Позже, к великому огорчению, оказалось, что сын являл собой мою копию.
– Замечательная примета, – уверяли меня. – Это к счастью!
Но понятие счастье соединялось у меня только с понятием «муж». Я, испытывая претензии к слишком длительному – девятимесячному! – преддверию материнства, ждала ребенка, но знала, ни на мгновение не сомневалась, что, даже по-сумасшедшему обожая сына, я все равно буду боготворить его меньше, чем мужа. Ибо сильнее любить было попросту нереально.
Услышав, что я, обращаясь к еще не появившемуся на свет сыну, произношу его имя, муж выразил удивление. Выразил беззвучным вопросом незаданно добрых глаз, которые источали покой и надежность. Тревожащие эмоции он проявлял лишь в любви ко мне. Только в любви. А в житейской суете и в ненависти ни разу! Он, мне казалось, даже не ведал, что такое злоба и раздраженность. Никогда не повышал голос, но и не понижал… Муж был уверен, что стабильность благотворна не только в экономике, но и в общении между людьми.
Ты постоянно находишься в санатории «Душевный покой», – говорила мне мама, которая давно уже жила лишь моей жизнью. – О чем еще могу я мечтать?..
Особое спокойствие муж проявлял в ситуациях чрезвычайных. Без промедления начинал действовать. Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию действий.
Мужу казалось, что имя Ефим блеклое, ничего собою не выражает, хотя для меня оно олицетворяло смысл бытия. Узнав, что я намереваюсь сделать сына его тезкой, он ни словом не возразил, а лишь задал незадирчивый вопрос:
– Может, лучше назвать его Венедиктом? В честь моего отца… Роскошное имя!
И хоть отец мужа был, как вспоминали, человеком незаурядным и погиб в последнюю неделю войны, я упрямо хотела назвать сына не в честь его дедушки, отца своего мужа, а в честь самого мужа. Который, кажется, впервые не уступил мне тут же, немедленно, а принялся мирно меня убеждать:
– Я не видел отца ни разу. И не слышал… Пусть мне кажется, что я вижу его в сыне и слышу в нем.
Мне следовало бы сдаться. Так было разумней. Но в противостоянии разума и любви неизменно побеждает любовь. И я настояла.
Муж мимолетно нахмурился, но сразу же преобразил недовольство в раздумье:
– Хочешь, чтобы он был Ефимом Ефимовичем? Ну, что ж… Если для тебя это имеет значение, откажемся от Венедикта. Не тревожься, пожалуйста.
Он часто просил, чтобы я «пожалуйста» не трепыхалась: нервные всплески были мне категорически запрещены. На них агрессивно реагировала моя астма.
У мужа была неповторимая, чудилось мне, способность заражать своим отношением ко мне окружающих. Термин «заражать» изначально принадлежит медицине. И это выглядело неслучайным, естественным, потому что наиболее зримое «заражение» проявилось в кабинете Ольги Митрофановны – выдающегося борца с астмами разных происхождений: сердечными, бронхиальными, аллергическими.
У меня была аллергия. Но на что? Ольга Митрофановна докопалась, что мои бронхи не любят цветов.
– Вам часто их преподносят? – спросила она.
– Да, постоянно…
– И кто, если не тайна?
– Мой муж.
– Вот кто виновник!
Я принялась взахлеб и по-дурацки всерьез защищать, мужа. А она, отбросив в сторону свою постоянную занятость, не перебивала меня. Она слушала с любопытством… «Потому что ей неведомы те добрые и отважные мужские достоинства, которыми переполнен мой муж!» Так думала я, когда живописала Фимины качества в виде аргументов, нелепо защищая мужа от ее шутки.
Ольга Митрофановна отдалась своим пациентам до такой степени, что не имела ни семьи и ни мужа. Она обладала значительной внешностью, главной приметой которой была сосредоточенность на одной-единственной цели.
«Чтобы справиться с астмой, вероятно, нельзя от нее отвлекаться», – думала я.
Как ученый она сокрушала астму теоретически, а как врач – практически. Последнее представлялось мне более важным: мой недуг был жестоким душителем и отступал только в схватке. Кроме того, он был наследственным, – и потому Ольга Митрофановна избавляла от удуший и мою маму.
– Ты получила в наследство от меня лишь болезни, – виновато вздыхала мама.
Словесно она возводила Ольгу Митрофановну на пьедестал и называла ее «спасателем». Но муж мой привык не к восклицаниям, а к поступкам.
– Голыми руками с душителями не справишься… если ты, конечно, не каратист, – сказал он однажды. – А у нее не хватает лекарств, ингаляторов, аппаратуры. Оружие в битве не может быть дефицитом! Иначе проигрываются сражения. Скажи, неужели и нашему Фиме тоже грозит астма? Если она… по наследству.
– Может быть, – тихо ответила я, будто извиняясь, что могу, подобно моей маме, преподнести такое наследство ребенку.
– Надо предотвратить! – сказал муж.
Пробиться к желанному всеобщему раболепию режим мог только дорогой страха. Но не какого-нибудь обычного, заурядного, а дьявольского, еще не виданного в истории! Такой ужас и порождала сталинская, официально, разумеется, не объявленная, теория «нелогичной кары». Если кара «логична» (хоть и с точки зрения чуждой тебе логики), она предсказуема – и можно ее упредить, избежать: веди себя согласно требованиям режима – и ты в безопасности. Но нет: ты можешь быть фанатически предан коммунистической партии, с утра до глубокой ночи славить вождя, даже рисковать ради них жизнью – и будешь арестован, судим, уничтожен. А кто-то другой (как, допустим, бывший генеральный прокурор Вышинский) может быть в прошлом кадетом или меньшевиком, состоять в родстве с зарубежным священником высокого ранга – и он-то как раз будет тебя обвинять, судить, приговаривать. «Какое вообще значение имеет биография?» – демократично изречет в этом случае товарищ Сталин. Вот при такой «нелогичности» наказания, по сталинскому замыслу, должны были трепетать все, ибо неизвестно было, в кого ткнет, на кого укажет карающий перст.
Разве мог хоть кто-то – тем более в «заграничной дали» – подобное себе представить, вообразить? Это было немыслимо, потому что подобного – вновь берусь утверждать! – еще не ведало человечество. Царь Иван, прозванный Грозным, уничтожил столько единоплеменников, сколько в годы «большого террора» репрессировали, думаю, за две-три ночи в одной только Москве. А ведь «черные вороны» рыскали по всем городам и весям страны…
Ни один властитель не сгноил такого количества своих сограждан, какое замучил пытками и утопил в крови Сталин. Это известно, но надо повторять, чтобы все тоскующие по его сатанинской власти избавились от своей самоубийственной, грешной тоски.
Даже человек высокого ума и уникального образования, каким был Евсей Фейнберг, но выросший или, как принято говорить, формировавшийся вдали от ленинско-сталинских нравов, так и не сумел до конца поверить в осуществимость жестокости такого непостижимого «качества» и таких небывалых – ни в прошлом, ни, надеюсь, в грядущем – масштабов. Вот почему он все же надеялся, что восемь лет заточения, к которым был приговорен, будут восьмью годами… Даже в Магадане он, думаю, не сразу осознал, что то была конечная станция его короткого бытия.
Достаточно увидеть его лицо, чтобы еще раз понять, убедиться: режим уничтожал лучших.
История Евсея Фейнберга – не потому, что он отец моей жены, а потому, что так и есть! – это сюжет романа, повести. Я и написал «Ночной обыск», который был опубликован в московском журнале «Октябрь». О многом из того, о чем вы прочли на предыдущей странице, мученически размышляет героиня моей, по сути документальной, повести…
Среди непонятностей, которые, наталкиваясь одна на другую, вторгаются в каждую человеческую жизнь, есть непонятность, для меня совершенно невообразимая: как, каким образом неслыханное в веках злодейство сочеталось с массовым обожанием злодея его жертвами, в том числе потенциальными, коими были почти все?! Когда моего отца и всех его друзей репрессировали, я, тринадцатилетний, понял, что это происходит не только с ведома Сталина, но и с его благословения. Задолго до своего ареста понял это и Евсей Борисович. Позже, однако, гораздо позже, из мемуаров знаменитых писателей, деятелей культуры, полководцев я узнал, что они, оказывается, верили… Во что?! Ну, у кого-то из, так сказать, рядовых граждан ужасом разум отшибло. Даже Лион Фейхтвангер, приехав ненадолго, не разобрался. Грустно, но можно понять… А вот умнейшие люди, постоянно жившие при советском строе, они-то во что верили, рискуя каждый день стать жертвами «большого террора»? В то, что все знаменитые военачальники (кроме таких дебильных, как Ворошилов, Буденный) были шпионами? В то, что вражески действовали почти все без исключения министры (в то время наркомы), их заместители, почти все поголовно командиры производства, тысячи и тысячи ученых, людей искусства, простых рабочих, крестьян? Верить можно было лишь в некоем обалдении. Или все-таки лгут, что верили? Полагаю, вторая версия чаще всего и является истиной.
Другое дело, что такие «рыцари без страха и упрека», как Евсей Фейнберг, всегда считают в чем-то виноватыми и себя: «Сегодня исполнилось десять лет со дня нашей женитьбы… Слишком много тяжелого пришлось нам пережить. Но большая часть страданий выпала на твою долю». Большая часть… Так пишет он жене из сталинского лагеря смерти. «Это терзает меня сейчас сильнее всего. Ведь я лишен возможности в течение восьми лет загладить эту вину перед тобой…»
И ни одной жалобы, ни одной просьбы о сострадании. Из лагеря смерти! Через несколько месяцев его не стало…
Более бесхитростного человека, чем Евсей Борисович, отыскать было трудно. Но, поняв, что его арестуют, он пошел на спасительный для своей жены, – а стало быть, и для дочери Тани – спектакль. Изменив себе, а не жене, не своему дому, он сделал вид, что семья распалась, – и развелся. Уже потом, через много лет, мать рассказала Тане, что тот развод был подвигом мужа и отца. Евсей Фейнберг не мог допустить, чтобы жена и дочь считались «семьей изменника родины». ЧС (или «члены семьи»)… То было клеймо, которое, как правило, становилось путевкой в тюрьму, в ссылку, в детдом. Евсей Фейнберг уберег самых любимых людей от клейма. И эту историю я тоже воссоздал в повести «Ночной обыск».
«Я ни в чем не виноват!» Кажется, только одна фраза в письме была криком.
«Я ни в чем не виноват!», «Я ни в чем не виновата…» – писали, кричали, доказывали десятки миллионов. Никто не услышал.
Как же надо было вымуштровать, выдрессировать общество, чтобы оно не воспротивилось тому кошмару… и обливалось слезами, когда наконец освободилось от палача?! Как же надо было…
Заброшенный памятник
С голоса
Могилы, надгробия, памятники… Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сровнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому, тогда по горестным этим пристанищам можно определить: продолжается ли жизнь того, кто ушел, хоть в чьей-то душе, в чьей-то памяти или навеки оборвана безразличием, неблагодарностью, расплатой за что-то, происшедшее на земле.
Надгробия, памятники, могилы… Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.
Первые и единственные конфликты – а верней, несогласия – между мной и мужем произошли месяца за три до рождения сына. Речь шла об имени и национальности, которыми сыну предстояло обладать с появлением на свет и до последнего вздоха. Но вспомню все по порядку.
Часами, совершая прогулки по совету врачей, я разговаривала с будущим сыном, который был будущим лишь для других, а для меня он уже существовал, даже действовал потихоньку… и не где-нибудь вдали или рядом, а во мне самой. Большей близости матери и ребенка, чем в пору беременности, наверное, не бывает. Я называла сына – то вслух, то мысленно, про себя – Фимой, потому что Ефимом звали моего мужа. С фанатичным нетерпением ждала я мальчика, потому что после, когда-нибудь он должен был стать мужчиной: как мой муж! И таким – только таким – как он. Столь нетерпеливо, порой с истеричным напряжением ждала я продолжения нашей семьи оттого, что предвкушала в этом продолжении повторение. Повторение своего мужа, его облика, его образа.
Позже, к великому огорчению, оказалось, что сын являл собой мою копию.
– Замечательная примета, – уверяли меня. – Это к счастью!
Но понятие счастье соединялось у меня только с понятием «муж». Я, испытывая претензии к слишком длительному – девятимесячному! – преддверию материнства, ждала ребенка, но знала, ни на мгновение не сомневалась, что, даже по-сумасшедшему обожая сына, я все равно буду боготворить его меньше, чем мужа. Ибо сильнее любить было попросту нереально.
Услышав, что я, обращаясь к еще не появившемуся на свет сыну, произношу его имя, муж выразил удивление. Выразил беззвучным вопросом незаданно добрых глаз, которые источали покой и надежность. Тревожащие эмоции он проявлял лишь в любви ко мне. Только в любви. А в житейской суете и в ненависти ни разу! Он, мне казалось, даже не ведал, что такое злоба и раздраженность. Никогда не повышал голос, но и не понижал… Муж был уверен, что стабильность благотворна не только в экономике, но и в общении между людьми.
Ты постоянно находишься в санатории «Душевный покой», – говорила мне мама, которая давно уже жила лишь моей жизнью. – О чем еще могу я мечтать?..
Особое спокойствие муж проявлял в ситуациях чрезвычайных. Без промедления начинал действовать. Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию действий.
Мужу казалось, что имя Ефим блеклое, ничего собою не выражает, хотя для меня оно олицетворяло смысл бытия. Узнав, что я намереваюсь сделать сына его тезкой, он ни словом не возразил, а лишь задал незадирчивый вопрос:
– Может, лучше назвать его Венедиктом? В честь моего отца… Роскошное имя!
И хоть отец мужа был, как вспоминали, человеком незаурядным и погиб в последнюю неделю войны, я упрямо хотела назвать сына не в честь его дедушки, отца своего мужа, а в честь самого мужа. Который, кажется, впервые не уступил мне тут же, немедленно, а принялся мирно меня убеждать:
– Я не видел отца ни разу. И не слышал… Пусть мне кажется, что я вижу его в сыне и слышу в нем.
Мне следовало бы сдаться. Так было разумней. Но в противостоянии разума и любви неизменно побеждает любовь. И я настояла.
Муж мимолетно нахмурился, но сразу же преобразил недовольство в раздумье:
– Хочешь, чтобы он был Ефимом Ефимовичем? Ну, что ж… Если для тебя это имеет значение, откажемся от Венедикта. Не тревожься, пожалуйста.
Он часто просил, чтобы я «пожалуйста» не трепыхалась: нервные всплески были мне категорически запрещены. На них агрессивно реагировала моя астма.
У мужа была неповторимая, чудилось мне, способность заражать своим отношением ко мне окружающих. Термин «заражать» изначально принадлежит медицине. И это выглядело неслучайным, естественным, потому что наиболее зримое «заражение» проявилось в кабинете Ольги Митрофановны – выдающегося борца с астмами разных происхождений: сердечными, бронхиальными, аллергическими.
У меня была аллергия. Но на что? Ольга Митрофановна докопалась, что мои бронхи не любят цветов.
– Вам часто их преподносят? – спросила она.
– Да, постоянно…
– И кто, если не тайна?
– Мой муж.
– Вот кто виновник!
Я принялась взахлеб и по-дурацки всерьез защищать, мужа. А она, отбросив в сторону свою постоянную занятость, не перебивала меня. Она слушала с любопытством… «Потому что ей неведомы те добрые и отважные мужские достоинства, которыми переполнен мой муж!» Так думала я, когда живописала Фимины качества в виде аргументов, нелепо защищая мужа от ее шутки.
Ольга Митрофановна отдалась своим пациентам до такой степени, что не имела ни семьи и ни мужа. Она обладала значительной внешностью, главной приметой которой была сосредоточенность на одной-единственной цели.
«Чтобы справиться с астмой, вероятно, нельзя от нее отвлекаться», – думала я.
Как ученый она сокрушала астму теоретически, а как врач – практически. Последнее представлялось мне более важным: мой недуг был жестоким душителем и отступал только в схватке. Кроме того, он был наследственным, – и потому Ольга Митрофановна избавляла от удуший и мою маму.
– Ты получила в наследство от меня лишь болезни, – виновато вздыхала мама.
Словесно она возводила Ольгу Митрофановну на пьедестал и называла ее «спасателем». Но муж мой привык не к восклицаниям, а к поступкам.
– Голыми руками с душителями не справишься… если ты, конечно, не каратист, – сказал он однажды. – А у нее не хватает лекарств, ингаляторов, аппаратуры. Оружие в битве не может быть дефицитом! Иначе проигрываются сражения. Скажи, неужели и нашему Фиме тоже грозит астма? Если она… по наследству.
– Может быть, – тихо ответила я, будто извиняясь, что могу, подобно моей маме, преподнести такое наследство ребенку.
– Надо предотвратить! – сказал муж.